"От винта!" - читать интересную книгу автора (Маркуша Анатолий Маркович)
Часть 2
Заканчивая «ОТ ВИНТА!», в самых последних, строчках я написал: «Желаю всем летающим жизни и — миллион на миллион!» В этот момент не сомневался — дело сделано. Больше к этой работе можно не прикасаться. Но не успело разойтись первое издание, как заинтересованный читатель стал спрашивать:
— А еще, дальше… что дальше будет?
— Чего, собственно еще вы желаете? — спрашивал я в ответ.
— Баек.
— Больше не знаю, — пытался отшутиться я.
— Не верим, но можем помочь… — и стали помогать, да так активно, что первоначально маленькая книжечка стала расти и пухнуть, требовать дополнительных иллюстрации. В итоге и получилось то, что вы держите в руках — «ОТ ВИНТА!» (с продолжением…)
Давно уже замечено — есть очень храбрые летчики и есть старые пилоты. Старые — надежнее.
Тогда к праздникам талончики на муку давали. Все брали и он тоже взял. Отлетавшись, пошел в общагу, у него на третьем этаже была комната-пенал. Шел и думал, а на что мне эта мука? И тут лошадь на глаза попала, паслась на первой травке. Угостил мукой из ладошки. Идет дальше, а коняга — за ним, видать, понравилось угощение. Долго ли коротко, только он ту оголодавшую лошаденку на третий этаж притаранил, оставшуюся муку на подоконник высыпал. Сам ушел праздновать.
Скандал, можете вообразить, какой разыгрался — первое мая, всенародный праздник, а тут лошадь из окна третьего этаже голову выставляет и ржет. Понятное дело, виновника — на ковер. Как такое безобразие понимать? У людей праздник, а ты, что выдумал? Отвечай!
— Праздник — правильно, а кого я в гости позвал, совершенно не ваше дело…
Конягу пожарные через окно эвакуировали, в комнате ее не развернуть было. А пилотяга тот прославился, его через приказ о нарушителях провели, все Военно-воздушные силы осведомлены были.
Есть такой аэродром Багай, мы в окрестностях дешевые яйца покупали и — в Саратов. Там дети и жены наши обретались, ждали, когда городок в Багае достроят. И вот задача — как сотню-другую тех дешевых яиц переправить по назначению? Ездили на попутках, а дороги, сами знаете, какие в России дороги.
И находится специалист. Объявляет: пакую с гарантией, несите старые газеты, покажу предметно. И что ж вы думаете, упаковал он сотню яиц каким-то своим секретным способом и на глазах почтенной публики сбросил посылку с плоскости Як-11. И все яички остались цели. А дальше дело пошло так — он пакует и приговаривает: «Готовь бутылек, за сотню — ноль пять, за двести — ноль семьдесят пять». Пришлось человека спасать. Когда бы в ту пору городок не достроили, мог и вовсе с круга такой талант спиться.
Петь мне категорически противопоказано за полным отсутствием музыкальных способностей. Все окружающие не уставали мне с самого детства повторять: медведь тебе на ухо наступил. И я поверил. А петь мне всегда хотелось. И вот какой случай выпал. Пошел на облет Ту-2. Летел без экипажа. Включаю маяк, слышу Утесова «Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали…» Не удержался от искушения, нажал на кнопку СПУ и запел вместе с Леонидом Осиповичем. Потом — с Бернесом пел, с Шульженко — тоже. И вдруг слышу:
— Командир, ты еще не устал надрываться?
Первое, что стукнуло в голову: неужели я не ту кнопку нажал и вышел на внешнюю связь? Меня аж затрясло в ознобе. На всякий случай спрашиваю:
— Это ты, Борисов?
— А кто же, я…
— Ты где?
— Где положено — в Ф-3.
Оказывается, радист Борисов прикорнул в кабине радиста, а я не проверил и считал — лечу один. Полегче сделалось, а то это конец света, если представить — я в открытом эфире!
Шел набор в школу летчиков-испытателей. К высокому начальству пришла женщина и, не соблюдая общепринятых правил обращения, очень по-домашнему объявила: вот я тут документы вам принесла, он в отлете сейчас, поручил мне.
— А вы кем ему приходитесь? — Поинтересовался генерал, глянув мельком в бумаги.
— Матерью. — Почему-то смутилась женщина.
— Извините, но сколько же вам лет, мама?
— Он у меня очень рано родился.
— Ой, мама, мама, вы хоть понимаете, на какую дорогу своего парня ставите? Рискованная у нас жизнь испытательская, подумайте, мама.
— Но вы же седой и живы. — Она улыбнулась генералу. — Но если моему сыну повезет меньше, чем Вам, я не буду в обиде — пусть погибнет счастливым, чем будет жить с отчаянием — не сумел, не достиг, не добился.
Мама умерла рано. Генерал тоже скончался, а он все живет и еще подлетывает при всякой возможности.
Гроб решили не открывать: земля не пощадила Костю. Но овдовевшая его жена потребовала: покажите мне его в морге. Она настаивала — это мое право, в последний раз ну, и так далее. Как тут отказать? Проводили ее в гнуснейший госпитальный подвал, приготовились подхватить на руки, когда начнет падать, но она устояла, хотя и сильно изменилась в лице, постояла в оцепенении, попросила всех выйти. Побыла у гроба еще сколько-то времени, на люди вышла с сухими глазами, внешне спокойная. И сказала:
— Все. Заколачивайте, — и повторила: — Все, все.
Через месяц она вышла замуж. Вроде бы за случайного соискателя вышла. Почему? Для чего? Трудно ответить: чужая душа и на самом деле — потемки.
Еще в училище пристало к нему прозвище Филей. Накрепко пристало, хотя и непонятно почему. Летал Филей надежно. Но, как ни странно, с болезненным упорством, можно сказать, поносил нашу летческую судьбу.
Ворчал он постоянно: «Летать, летать, а что такого в этом? Мухи тоже летают!» Был у него и другой конек: «Ну, что это за дело — три дня готовься, пиши, черти, отвечай на вопросы начальников, час летай и опять — разговоры. Как же на войне было — ракета и пошел!»
— Слушай, Филей, ну что ты все ворчишь?
— А это — фасон де парле! Не понял, ясно? Учи французский тогда поймешь.
Как однако мы любим выстраивать людей по ранжиру: этот — дважды Герой, а этот первый летчик страны, да что там — страны, первый в мире! Но и того мало: великий летчик… И так — годами. Я поинтересовался у сизого пилота, больше сорока лет пахавшего в нашем небе, как он оценил бы заслуги, свои личные, перед господом богом? Он усмехнулся:
— Серьезно спрашиваешь?
— Вполне.
— Боженька, учти, пожалуйста, я налетал двенадцать тысяч часов и никого не увил, так что решай, куда мне теперь — в рай, в ад или посидеть в чистилище, пока твои кадровики не получат акт о причинах моего списания с летной работы.
Инструктор своему курсанту: «Высоко, высоко выравниваешь!» А в следующем полете: «Низко, выравниваешь, внимательнее надо!»
Курсант после полетов: «Разрешите вопрос: какое выравнивание лучше — высокое или низкое?» Инструктор: «Оба хуже».
А раньше в авиации веселей жилось. Судите сами: первого апреля двадцать второго года Линдберг впервые пришел на летное поле, а девятого выполнил самостоятельный полет. Вот такие порядки были! Обучение заняло неделю и обошлось в 500 долларов, а еще за 500 долларов он купил подержанный военный самолет и начал свое восхождение к славе. Цель была ясна. Раймонд Ортег назначил приз в 25 тысяч долларов тому, кто пересечет Атлантику — в одиночку и без посадки.
Через пять лет Линдберг этот приз получил. Вылетев из США, он в обществе своей кошки пересек Атлантику и приземлился в Ле Бурже.
Впечатляет? А если сравнить, далеко ли удавалось улетать нам за пять лет, и возможно ли представить, чтобы наш младший лейтенант был пожалован следующим званием — генерала. Правда, это уже во время второй мировой войны произошло, Линдберг долетал до этой поры!
Он пришел неожиданно, и я сразу унюхал — прежде, чем появляться пред строгими очами супруги, ему требуется побыть в зоне ожидания Представил гостя моей новой жене. Она тоже оценила ситуацию и предложила:
— Может кофе сварить?
— Нет-нет, никакого кофе не надо, спасибо.
— А как на счет душа?
— Душ предлагаете… или вы думаете я того… перебрал? — и вскинувшись в стойку, он потопал на руках «дальний угол нашей двадцатиметровой комнаты.
Потом жена призналась, что умирала от страха и сострадания. А если его искусственный глаз выскочит и куда-нибудь закатится, что тогда делать?
Но все закончилось благополучно, мы тихонько распили четвертиночку на троих, закусили маслинкой, и он тихо ушел. А мне вспомнилось: долгие годы я не осмеливался называть его просто по имени: он был летчик такого таланта и популярности, такого авторитета, что порой меня так и тянуло вытянуться во фронт и ждать его команды. Но пришел день и он сказал:
— Что ты меня все но отчеству величаешь? Пора на брудершафт, ну! — и мы выпили, как полагается, поцеловались. — Ты — летчик и я — летчик, с одной бетонки летаем, какого… еще надо?
В последний раз я видел его вскоре после того, как медицина отстранила Сережу от летной работы. Он тосковал и неожиданно произнес:
— Не дали на Бермуды слетать…
— Зачем? — удивился я.
— Странно спрашиваешь, надо разобраться, что там происходит.
Генерал-полковник и полковник жили в одном доме, когда-то им случалось летать в одном экипаже. Генерал не пил, не курил, занимался спортом, любил животных; полковник почти не пил, никогда не пробовал курить, любил собак… И случилось им сойтись на очень торжественном юбилее. И тот и другой были причастны к событию, генерал — в большей, полковник в меньшей мере. Круглую дату отмечали торжественно, можно сказать, азартно. Тосты запивали отнюдь не кефиром. Генерал-полковник, кажется, впервые позволил себе нарушить завет и пригубил рюмку коньяка, а полковник и вовсе — дал себе волю.
Но речь вовсе не о том, кто сколько выпил.
По приглашению соседа генерала полковник возвращался в его служебной «татре». Машина была с двухдверным кузовом. И… полковнику пришлось попросить, а шоферу тормознуть и генералу выйти, откинув спинку сиденья. Все происходило в полном молчании. Полковник успел выскочить и через минуту поехали дальше. Но через немногие километры операцию вынужденно повторили и так, пока добрались до дому, генерал выходил из машины, откидывал спинку своего кресла раз пять.
И теперь самое главное. «Татра» остановилась у подъезда их общего дома, полковник оказался на воле, генерал, прощаясь с ним сказал: «Сегодня я узнал вас в совершенно новом качестве, правда, несколько неожиданном. Но все равно — рад: подчиненных надо постигать возможно основательнее, чтобы надежно управлять ими. Всего вам доброго. Отдыхайте». — И он назвал полковника по имени и отчеству, чего обычно никогда не делал. «Служу Советскому Союзу», — сам того не ожидая ответил полковник. И действительно прослужил еще много лет.
Юмор, как известно, имеет множество оттенков — от самых светлых, до безнадежно темных. Правильно говорю? А теперь оцените: инструктор предупреждает курсанта: учти, голова два уха, в нашем деле как — нет земли, нет, нет земли и… полный рот земли. Понял?
Летал, летал и никогда не думал, сколько может стоить самолет. А тут послали на завод принять машину. Документов навыписывали полный планшет, среди прочих — платежка. Глянул и языка лишился — девятьсот одиннадцать тысяч, ноль семь копеек. Копейки докапали. Видать точно посчитано, если аж семь копеек в итог выползли. А ну как я ее без малого миллион стоящую, на посадке разложу? Никогда таких мыслей раньше не бывало, а тут едва в панику не бросился…
Первые в мире почтовые авиамарки появились в 1912 году. Инициатором этого начинании был Август Эйлер, обладатель германского пилотского свидетельства № 1.
В свое время на самолете АНТ-9 была установлена четырехдюймовая (102-мм) динамо-реактивная пушка, ее длина составляла почти 4 метра. Эксперимент был удачным, но реактивные снаряды, покачав свое преимущество, не дали ходу этому изобретению.
Надежность парашюта своей конструкции его создатель Ирвинг доказал еще в 1919 году, покинув самолет на высоте 600 и открыв купол на 200 метрах.
Был такой пилот-планерист Герман Гейгер, он освоил посадки на высокогорных склонах, на глетчерах и спас 574 альпинистов, терпевших бедствие в горах.
Мы так привыкли к трехопорному шасси с передней стойкой, что уже не очень представляем себе иную схему. А впервые трехногое шасси, так сказать, современного вида появилось в 1934 году, на самолетах ХАИ-4 и CAM-13.
Чего только не перетерпел за свою долгую жизнь наш покладистый У-2! Даже паровую двигательную установку на нем испытывали.
Следом за Валерием Чкаловым на самолете И-180 погиб Томас Сузи. Катастрофически неудачный оказался этот самолет, хотя обладал очень незаурядными качествами.
Был у нас такой пассажирский самолет АНТ-35, первым его поднял Михаил Громов, 20 августа 1936 года. И мало кто помнит сегодня, что АНТ-35 «вырос» из удачного бомбардировщика СБ.
Летчик-испытатель Юлиан Пионтковский умудрился выполнить 300 посадок за один день, чтобы убедиться в прочности шасси самолета УТ-1.
Идею герметической гондолы предложил в 1875 году Д. Менделеев, появилась такая гондола на стратостате Пикара. А герметическую кабину на самолете впервые смонтировали на «Юнкерсе» — Ю-49.
Разговор из давних и памятных:
— Не возникай, понял. Когда невезуха прет, ничего не сделаешь.
— Бреши! Меня три раза сбивали. Но — жив. Каждый раз приходил.
— И что?
— Вот тебе и невезуха…
— Ты пешком приходил, давал показания и дрожал, что особняк решит…
— Логики не улавливаю…
— Не ты решал: летать тебе дальше или нет, вот и вся логика.
— Много рассуждаешь, Леха, ты же не замполит. Не ты боевой листок выпускал, когда я пришел в третий раз и обнаружил — готов! Похоронили. Интересно было почитать. Не ты этим занимался, но любишь похоронные мотивы выдавать.
— А на листок ты чего обиделся? Так положено. Помянули добрым словом, скажи спасибо…
— Эх, Леха мало ты чего понимаешь. Я летчик и мое дело — летать! А везуха, да невезуха — бабская это тематика, Леха.
Давний этот разговор. Тот, кто настаивал — мое дело летать, а все остальное — чешуя, умер, долетав до шестидесяти двух лет и завещал написать на могильном камне одно слово: «летчик», хоть был и в чине поднебесном, и Героем, и прочая, и прочая.
Звонит старый друг, просит помочь, как он выразился, нашему парню, тот что-то сочинил и не знает, как распорядиться написанным. Куда обращаются в таком случае, на что можно рассчитывать? И вот наш парень является.
Он оказывается майором, штурмовиком, много и с успехом полетавшим в военные годы. Написанное им занимает страниц сорок машинописного текста, речь идет о судьбе пацана, приставшего к гвардейскому штурмовому полку.
— Сюжет не нов, — сказал я полистав текст, — о сыне полка написал Катаев, а как оно у тебя получилось, скажу, когда познакомлюсь, тогда и поговорим.
Но разговора не получилось, на следующий день я обнаружил здоровенную газетную публикацию с этим самым материалом. Посчитав, что теперь мои «редакторские усилия» совершенно излишни, я позвонил «нашему парню» и сказал, что думаю. На мои уверения — писательство работа трудная, требующая больших усилий, соблюдения известных правил и традиций, я услыхал:
— Ста-а-арик, я же не собираюсь в Тургеневы, я не писать хочу, я хочу печататься. — И он печатался много-много лет. Такова жизнь.
Учили летать болгар, и все бы ничего, но как слушатель замотает головой из стороны в сторону, а следом — вверх вниз — караул! По-болгарски — да, соответствует нашему — нет и наоборот. Вот поди и сообрази он с русского на болгарский или с болгарского на русский переводит. На земле куда ни шло, но в полете — сами можете вообразить.
Но приказано было выучить и мы учили, сперва на Як-11, потом на Як-23 и на МиГ-15. Все шло довольно гладко, пока я не почувствовал — один из моих слушателей мандражит на пилотаже, а чего он опасается долго не мог понять. Наконец выяснил: парень был не уверен, если он непроизвольно сорвется в штопор, сумеет ли правильно определить
После этого полета парня стало не узнать, залетал весело с улыбкой, но вот беда — растрепал мальчишка, что он с инструктором по двенадцать витков крутил и с фигур срывался и даже в перевернутый штопор я со спины входил… Дошел его треп до начальства. В порядке профилактики мне и впаяли: «за нарушение инструкции по технике пилотирования, пренебрежение методическими указаниями и самовольство трое суток домашнего ареста», Вроде бы обидно, а подумать — да, плевать — на трое суток больше или меньше, главное-то — переломил я пацана.
Медики доложили по начальству: летный состав неприлично разжирел, что и не удивительно: летают мало, физкультурой не занимаются, а питание по пятой норме, знаете, какое?! И предложили сократить норму. Рассудили научно — в калориях: посчитали, на килограммы прикинули, в проценты живого веса перевели. Понесли на подпись.
Только маршал авиации с медиками не согласился и обосновал свой отказ без особых расчетов.
— Положим сократим. Украдут столько же, как сейчас, и что тогда летчикам достанется. Нет, не пойдет.
Стук в стенку означал — начальнику плохо с сердцем. Он был, к сожалению, сердечник, что, впрочем, не мешало генералу оставаться активнейшим дамским угодником.
Едва натянув тренировочные брюки, несусь на генеральскую половину дома. Он меня встречает в дверях, сует ключи от машины… За ним маячит едва одетая, а точнее — почти голая девица.
— Вези на станцию! Аккуратно, мне позвонили — жена от платформы сюда движется… Давай!
Укладываю девицу на заднее сиденье. Еду. Генеральскую жену засек вовремя, отворачиваюсь и не снижаю скорости. Конечно, она не могла не заметить трофейный «оппель» своего супруга, но к черту подробности. Это потом.
На станции девица привела себя в порядок и глаза и губы накрасила, готова рвать когти на электричку, говорю:
— Стоп, кошечка! Не так быстро. С тебя три пятнадцать.
— Чт-о-о-о? С меня? И почему это три пятнадцать? — она произносит еще кое-какие слова, но их я лучше опущу.
— Три пятнадцать стоит пачка «Казбека», все остальное — бесплатно: ты мне понравилась.
Она, видимо, соображает, что на моих тренштанах нет карманов, а стало быть я без гроша, без документов, и смеется.
Возвращаюсь и громко докладываю: — Вот, держите папиросы… — жена должна слышать, — как велели, купил «Казбек».
Он подмигивает мне:
— Спасибо. Три пятнадцать за мной. Молодец.
Пригнал машину из ремонта, иду в эскадрилию и вижу — подозрительно весело мужики встречают. В чем дело понял не сразу. Оказалось, пока отсутствовал, меня к новому ведущему приписали. Главное — ведущий — она, дама. «Что будешь делать?» — интересуются товарищи. Летать под рукой у бабы мне, ясное дело, никакой охоты нет. Но приказ есть приказ…
Был конец февраля. Говорю:
— Придется до первого мая жениться.
Ржут. Ты же ее не видел. Поспорим, не женишься. Слово есть слово, вроде бы приказ самому себе. 30 апреля мы расписались. На десять лет меня хватило.
Сегодня полет без двусторонней радиосвязи кажется затеей совершенно немыслимой. А нам, пилотам предвоенной выпечки, досталось овладевать радиообменом более чем примитивным образом. Передатчиков на самолетах поначалу вовсе не было, только приемные станции стояли. И сразу возникла проблема: как оценивать овладение новой техникой? Придумали однако: отмучившись в пилотажной зоне под завывание, писки и трески в наушниках шлемофона, мы должны были проходить над стартом на заданной высоте и сквозь помехи эфира принимать команду едва уловимую обычно, что-нибудь такое: «Вираж влево, разгон и боевой разворот вправо» или «снижение до высоты двести, набор до пятисот…» Понять, что мы должны, было почти невозможно. Поэтому решали задачу по-своему — выйдя над точкой, крутили бочки, снижались, набирали высоту, «кидали крючки» влево и вправо… На что надеялись? Во-первых, может хоть частично угадаем и попадем в зачет; во-вторых, начальству тоже
Такое очковтирательство продолжалось долго, пока PCИ — радиостанции самолета истребителя не были хоть мало-мальски усовершенствованны.
Вот вам, молодым, вам зеленым вопрос на засыпку: обтекатель, что означает? Только не говорите — устройство снижающее сопротивление потока воздуха. Это всякому ясно. А еще? Ну — обтекатель?
Учитесь, пока я жив, так называли всех, кто терся при авиации и не летал, но очень охотно изображал летчика, пудрил мозги девочкам и, как правило, попав на борт в качестве пассажира, укачивался и травил сразу после второго разворота.
А как играют в «хромого солдата», знаете? В довоенные годы старшинами эскадрилий назначали большей частью сверхсрочников-обтекателей. Не самые сообразительные попадали на эти должности. И, понятное дело, немедленно начинали куражиться над нами. Власть свою показывали.
— Три-четыре! — орет на вечерней прогулке такой балбес. — Строевым. Выше ножку, печатай шаг!
И мы печатали, рубили изо всех сил, но только одной левой. Эффект получался потрясающий, будто сто хромых стараются раздолбить асфальт.
— Отставить! — входит в раж старшина. — На месте шаа-агом… ма-а-арш!
Теперь хромой солдат вроде гвозди забивал. И зачинщиков никогда найти не удавалось. Так и уходил с плаца непобежденный хромой солдат.
А теперь — слово Ричарду Баху, американскому летчику нестандартной судьбы (о нем я еще надеюсь рассказать) а пока слушайте его самого:
ФАКТ. Человек, носивший форму офицера Военно-воздушных сил Франции, у которого в летной книжке было записано семь тысяч часов налета и которого звали Сент-Экзюпери, не вернулся из разведывательного полета над родными землями.
ФАКТ. Офицер разведки Люфтваффе Герман Корт 31 июля 1944 года, тем вечером, когда домой не вернулся только самолет Сент-Экзюпери, переписывал сообщение: «Доклад по телефону… уничтожен разведывательный самолет, он загорелся и упал в море».
ФАКТ. Библиотека Германа Корта на Экс-ла-Шапель с особой полкой для книг Сент-Экзюпери была уничтожена бомбами союзников.
ФАКТ. Однако ни пули, попавшие в мотор его самолета, ни пламя, охватившее машину, ни бомбы, разорвавшие в клочья его книги, не уничтожили Сент-Экзюпери. Потому что настоящий Сент-Экзюпери — это не плоть и не бумага. Это особое мышление, возможно, очень похожее на наше, но все же такое, как у Лиса, единственное в своем роде».
Этот крошечный отрывок из многого, написанного летчиком Ричардом Бахом, наверняка не оставит вас равнодушным. Каждый летающий — молодой ли, маститый, пилот гражданский или военный летчик, непременно должен познакомиться с писателем Бахом. Его Книги переведены (правда не лучшим образом) на русский язык и все равно такое знакомство поможет вам многое переоценить, понять прежде всего в себе.
Раньше, в старые добрые времена, в авиации были свои понятия о приличиях. Вот характерный пример: к летавшему начальнику любого ранга не принято было обращаться по воинскому званию, только — товарищ командир. Чувствуете, в чем соль? Ты — летчик и я летчик, вот какой был подтекст, мы оба — летчики и принадлежим единому воздушному братству. В ту пору командиры полков не обедали в отдельных кабинетах, в общей летной столовой имелся, так называемый, командирский стол. За него без приглашения Самого никому в голову не могло придти усесться и начать чавкать…
Все знают: Чкалов привез из Америки легковую машину. А кто бы подумал, что сам себе Валерий Павлович сделал такой подарок, как набор граммофонных пластинок Рахманинова?!
Среди множества чудес нашей авиации числится самолет-истребитель конструкции В. Шевченко и В. Никитина — у этого биплана нижнее крыло убиралось в верхнее. Диковинная машина создавалась в 1939—41 г. Хорошо летала, но не выдержала конкуренции с ЛаГГ-3, МиГ-3 и Як-1.
Григорий Бахчиванджи погиб в 1943 году, ему было 34 гада, он высоко оценил самолет, хотя и предсказал — убьюсь я на нем. Звание Героя Советского Союза Григорию Яковлевичу присвоили посмертно лишь в 1973 году, спустя 30 лет. Не спрашивайте — почему. На этот вопрос нет разумного ответа.
Почему английская фирма «Авро» называется так, слыхали? Ее организовал один из пионеров авиации Аллиот Вердон Ро, его считали первым британцем поднявшим самолет английской конструкции и постройки. В 1910 г. появилась фирма «Авро», ее название включило инициалы и фамилию своего создателя.
Братьев Райт мы привыкли воспринимать как-то вместе, будто близнецов. Старшему не повезло: Вильбур скончался в 1912, в сорок пять лет всего, умер от тифа. Орвил же прожил 97 лет, сохраняя высокую активность до самого своего конца. Как ни странно, приоритет Райтов в самих Соединенных Штатах не признавался до 1942.
Никогда не забывайте, что бы и почему бы ни произошло, первым на месте катастрофы… бывает пилот.
Самолетов в воздухе все больше, хорошо ли это? Если не считать шума всевозрастающего, особенно при взлетах, если не думать о загрязнении окружающей среды, ясно — хорошо, но так нельзя. Думайте!
Томас Октейв Сопвич — один из самых популярных пилотов Англии. Не менее известна и фирма «Сопвич», переименованная в «Хокер-Сидди» в честь ее ведущего испытателя. Но пожалуй, самое удивительное, связанное с этим именем, — Сопвич прожил 101 год, кажется, установив рекорд долголетия среди пилотов всего мира.
1321 самолет летчиков-камикадзе не вернулся на свои базы. Американские архивы упоминают о 34 потопленных и 288 поврежденных боевых кораблях, ставших жертвами камикадзе. Что и почем, судите сами.
До войны среди строевых песен особым вниманием пользовались, так называемые, авиационные. Вот пример того, что мы певали: «Легкий ветер подует с востока, летный шлем с головы он сорвет и напомнит, что где-то далеко синеокая девушка ждет…» Ничего себе — легкий ветер, срывающий с головы летный шлем? «Наш острый взгляд пронзает каждый атом…» — тоже не слабо завернуто! Пели еще и не такое. Или музыка подкупала: не ощущать идиотизма слов, подобных приведенным, мы ей-ей не могли.
Но когда подхалимы срочно сляпали песню величавшую маршала Тимошенко, сообщавшую, как он куда-то летел и почему-то приземлялся на лугу, мы тихо взбунтовались. И выглядело это так:
— Запевай! — командовал старшина, и эскадрилья затягивала на мотив похоронного марша: «низко-низко пролетает и спускается на луг!» «Отставить! — взрывался старшина. — На месте ша-а-а-гом ма-а-арш!» Но непобедимый «хромой солдат» вступал в дело и не было силы, способной его унять.
Интрига вокруг включения в космический экипаж гражданского лица плелась долго и мучительно. Военные стеной стояли — нет, никаких штатских не надо! Королев, расположенный к полковнику медицинской службы Федорову, а тот возглавлял летную комиссию, что называется, уломал Евгения Алексеевича отважиться и подписать допуск на полет Феоктистова.
Драчка затянулась и зашла так далеко, что Федоров в числе других ответственных лиц очутился на совещании у самого Косыгина, в ту пору — главы правительства.
Спор продолжался и здесь, пока Косыгин не спросил:
— А кто подписал допуск Феоктистова?
— Я, — сказал Федоров, и встал.
— Почему? — спросил Косыгин.
— Потому, что я врач, Алексей Николаевич.
И Феоктистов полетел, открыв дорогу всем штатским, последовавшим за ним. Федоров остался в полковниках, представление его к генерал-майору медицинской службы было отозвано, а так ничего особенного и не произошло: «их напев на земле, в небесах и на море и могуч, и как известно, силен».
Вроде ни с того ни с сего корабль начал раскачиваться с крыла на крыло, дальше больше. Командир корабля послал второго в салон:
— Погляди, там все в порядке?
Второй через секунду влетел в кабину обратно, с квадратными глазами: оказалось, орава рыбаков в том рейсе везли смену моряков тралового флота, элементарно перепилась и под руководством своего начальника — он дирижировал! — раскачивались от борта к борту и веселились: «Нормально штивает!» Ситуация принимала угрожающий характер. И как унять сто мужиков, не соображающих, что они творят?
Командир самолично вышел к буянившим, молча вскинул пистолет к носу дирижера и сказал, именно сказал, а не заорал заполошно: «Немедленно прекратить! Идиоты, самолет — не пароход, не спешите в воду. Ну!»
Потом он удивлялся: «И ведь подчинились! Почему — ума не приложу».
Кто это придумал и как оно началось, теперь и не вспомнить. Были мы уже не слишком молоды в ту нору, лет по десять каждый отработал летчиком, и тут пришлось пожить снова в казарме.
В положенный час — «Подъем!» Старший и самый тучный из нашей команды не сразу понимает, почему ему никак не удается с ходу натянуть брюки. Оказалось — штанины зашиты… и — карманы… и ворот рубашки. Кто смеется, кто подначивает пострадавшего, но тому, понятно, не до веселья — ругается на чем свет стоит. И… готовит месть.
В положенный час — «Отбой!» Падаем в койки и снова вскакиваем: один орет не своим голосом: в постели, как оказалось, перекатывались холоднющие, вздутые от ледяной воды презервативы…
И пошло, и поехало! Изобретательность завтрашних испытателей не знала границ, пока тихий наш парень не сел с размаху на двухпудовую гирю и едва не повредил позвоночник. Розыгрыши кончились сами собой.
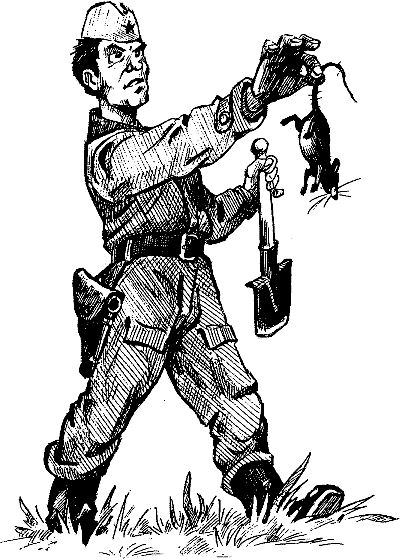 |
Хочешь пролетать долго, —
Эти слова давно стали летучими: с ним я в разведку не пойду. Слышать их приходилось много-много раз и всегда в отсутствии того, с кем говоривший идти в разведку отказывался. И лишь однажды я оказался свидетелем такого обмена комплиментами:
— Можешь думать обо мне все, что хочешь, но я прямо говорю, при людях: с тобой я в разведку не полечу. Нет!
— Правильно толкуешь: ты и без меня не полетишь, найдешь повод… — Это говорил летчик, награжденный двумя орденами Славы, случай в авиации редчайший.
Было время, довелось нам пожить в Монголии, в резерве мы там сидели. Дежурили с утра до сумерек. День за днем. Жили примитивно. Комната на звено — четыре койки, один стол, четыре табуретки. Прихожу как-то, с позволения сказать, домой и застаю такую картину: у стола сидит Васька и склонившись над расстеленной газетой трет на зубах печенье.
— Что ты делаешь?
— Тихо! Делаю торт… Будем праздновать вечером…
Измельченную на зубах пачку печенья он смещал со сгущенным молоком, сформовал две лепешки, одну обсыпал орехами, намазал вареньем — эти прелести были куплены в военторге — склеил и потащил на чердак — замораживать.
Праздник начался вечером. Заглянувший к нам замполит не сразу понял, почему загул? Но мы объяснили — сегодня день рождения Клары Цеткин, вот в отрывном календаре напечатано, можете проверить.
Пребывание в резерве оборвалось так же внезапно, как началось. На сборы — сутки! Завтра — в эшелон и — дранг нах вестен. Но еще сегодня обнаружилось — со всех коек исчезли подушки. Поясню: казенные подушки набивались соломой, на них никто не позарился, а вот собственные, благоприобретенные, мягкие, как корова языком слизнула. И снова — Васька! Умудрился за два часа загнать наш «пух-перо» монголам, оказалось этот товар у них в высокой цене был. На всю выручку он закупил в военторге наипервейшие продукты. Забегая вперед, скажу: а сухой дорожный паек, что был положен, Васька все полтора месяца, что мы тащились в эшелоне, менял на рыбу, молоко, мед, яблоки, папиросы. Его интендантского таланта хватило до самого Харькова.
В авиации, как в любом ремесле есть свои мудрости. Главнейшая изо всех важных: нет скорости — конец полету, начинается свободное падение!
Так уж случилось, что книгу известного американского летчика Ричарда Баха «Чайка Джонатан Ливингстон» мне подарил мой добрый немецкий друг и тоже летчик. Книга была издана в Германии, в переводе. Пролистав с ходу великолепно оформленный томик, я легкомысленно решил — не то! И знаете почему — я с детства питаю предубеждению к любой фантастике, даже Жюль Верна не принимаю. И красивую книжку Баха я стал читать только потому, что немецкий друг сказал:
«Удивительно он понимает душу летающего человека. Даже не знаю с кем его сравнить — разве что с Экзюпери?!»
Читая, увлекся и прежде, чем понял, ощутил — этот человек не просто талантливая, высокохудожественно одаренная личность, он носитель собственной, совершенно особой философии. Бах спрашивает: а для чего, собственно, ты живешь, знаешь ли ты, как жить правильно и отвечает на эти вроде бы не имеющие убедительных ответов вопросы. Не просто отвечает, с позиции умного человека, а с точки зрения
Понимаю, как бы мне того не хотелось, Баха пересказать нет никакой возможности, его непременно нужно прочитать и пережить, особенно, если ты пилот по призванию, а не по случайному стечению обстоятельств. Прочти, и твой мир станет ярче, тревожнее и убедительнее.
Очень молодой и очень бойкий пилот спросил весьма известного, прославленного летчика-испытателя:
— А скажите, только по правде, вам никогда не бывает страшно, ни в полете, ни на земле? Ответ прозвучал несколько неожиданно:
— Неужели я произвожу впечатление полного идиота: ничего и никогда не боятся только недоумки, дураки: они не могут определять в силу своего природного недостатка, — он покрутил пальцем у лба, — меру грозящей им опасности.
Наверное, плохое и даже отвратительное настроение случается у каждого. И никогда мне не приходило в голову, что существует универсальное средство для преодоления этого гадостного состояния. Научил меня, как быть в таком случае, старший товарищ, летчик божьей милостью, приобщившийся к авиации лет на десять раньше меня.
— Когда тебе станет свет не мил, когда вдруг ожесточишься не понятно отчего, в пору задушить хоть кого-нибудь, знаешь что делать? Задери голову, расставив ноги на ширину плеч, расслабь мышцы и гляди в небо… Если оно голубое, безоблачное, и пяти минут не пройдет, как спокойствие и небесная умиротворенность снизойдут на тебя; если небо окажется в этот час в облаках, приглядись к кучовке и подумай: кого или что напоминает тебе вот это облако. Увидишь, все другие мысли непременно отойдут в сторону. Но особенно здорово успокаивает ночное звездное небо. В тихом мерцании звезд звучат успокаивающие, еле различимые голоса, и с ними к тебе возвращается беспечность самого раннего детства, та золотая пора жизни, когда весь твой мир заключался в маме, в ее ласковых теплых ладошках, в колыбельных напевах, смысла которых ты не понимал, они были для тебя самой добротой, растворением в бескорыстной любви.
— Извини, — сказал я тут, — можно тебя перебить? — И, очевидно по вредности характера, спросил: — А как быть, если облачность десять баллов, если из нее сыплет мелкий дождичек со снегом, если видимость при этом ноль целых и сам знаешь сколько десятых, если аэродром временно закрыт?
— Позволь, но ты же летчик! Ты не раз летал за облака и видел — там небо всегда чистое, всегда голубое днем и задрапированное звездными узорами ночью. Так? Вот и задери голову и
Не один десяток лет минул, как я узнал эту пилотскую мудрость, и неустанно вглядываюсь в небо, когда что-то не ладится. И, знаете, помогает. Впрочем, попробуйте сами, вы же летники.
Начиная создавать машину нового типа, фирма «Дуглас» созвала тех, кому самолет предназначался и попросила высказать свое мнение о проекте. А заключение было сделано такое: «Это все равно, что собрать комиссию, чтобы проверить, не получилась ли у вас лошадь вместо верблюда».
Первый в мире сверхзвуковой пассажирский лайнер — Ту-144. На высоте 16300 метров он развивал скорость 2150 км/час. Опробованная в регулярных полетах с почтой и грузами, машина начала выполнять пассажирские рейсы. К сожалению, через 102 успешных полета линию закрыли. Не по карману оказалось нам такое удовольствие.
Птицы представляют немалую опасность летательным аппаратам. Поэтому существует такое экзотическое испытание — по летящему самолету стреляют двухкилограммовыми куриными тушками из пневматической пушки. И смотрят — держит ли машина удар?
Почти пятьдесят лет назад (в 1952 г.) начались регулярные полеты между Европой и Северной Америкой через Северный полюс. А давно ли, кажется, были совершены первые шаги в высокие широты.
Самолет впервые получил убирающееся шасси в 1920 году.
Многие считают самым знаменитым пассажирским самолетом «Дуглас» — ДС-3. Пожалуй, для такого мнения имеются веские основания: некоторые образцы этой машины находились В эксплуатации пятьдесят шесть лет, считая со времени первого полета прототипа.
В свое время Михаил Ефимов был вынужден уплатить 100 франков штрафа. За что? Это случилось в 1910 году, когда Ефимов впутал в струю своей машины самолет А. Роулинсона и тот завалился в море. К счастью, все обошлось штрафом.
Парашютные прыжки начались 200 с лишним лет назад, когда 22 октября 1797 г. Гарнерен покинул корзину воздушного шара на высоте 600 метров и благополучно приземлился под шелковым куполом. А 23 августа 1986 года его примеру последовала Сильвия Бретт, хотя ей исполнилось к тому времени 80 лет и 166 дней.
«Я летал на самолете «Максим Горький» незадолго до его гибели… еще больше, чем техническим совершенством самолета, я восхищался молодым экипажем и тем порывом, который был общим для всех людей». Антуан де Сент-Экзюпери.
На востоке нас кормили главным образом рисом — в завтрак, в обед, в ужин. Рис был шикарный — крупный, белый, можно сказать королевский был рис, но… три раза в день и так неделя за неделей… Попробуйте быстро-быстро произнести рис, рис, рис, рис… Что получилось? Вот то-то! Когда мы наконец попали в Харьков и на нищенском рынке военного времени обнаружили бабушку, торговавшую мочеными яблокам, мы съели всю цибарку, что называется, не отходя от кассы.
— Или вы с тюрьмы, — поинтересовалась бабуля, — где ж вы так оголодали, сердечные?
Думаю она не поверила, что перед ней звено летчиков-истребителей — мы очень обтрепались и засалились в эшелоне — и милостиво разрешила нам допить рассол бесплатно.
И еще про Харьков. Приехали. Эшелон остановился в пригороде бывшей столицы Украины. Первое, что запечатлелось, дома напоминали помесь обычных построек и католических соборов — дымовые трубы, словно трубы органов, тянулись до самых крыш. Люди согревались, как могли. Замечаем на рельсах ребенка. Девочка лет шести копошится на путях, собирает кусочки угля. Потом узнали — зовут Алла, мама на работе. Спрашиваем:
— А ты не боишься, Аллочка, здесь поезда ходят?
— Я смотрю, — с вздохом отвечает ребенок, — больше некому…
— Хозяйственный наш Васька тащит из вагона кусок хлеба, щедро намазанный маслом и посыпанный сахарным песком.
— Держи, Алла, кушай.
— Спасибо, — ели слышно отвечает девочка и… не ест. Мы отворачиваемся, чтобы не смущать ее. Нет, не ест и вдруг спрашивает:
— А это не стравливает? — и показывает замурзанным пальчиком на сахар.
— Слова сахар она не знала, но ей было известно, что оккупанты уничтожали детей, например, мазанут синильной кислотой по губам, и нет человечка. Это тоже лицо войны, о которой я не люблю вспоминать.
Он был известным героем Испании. О нем рассказывали легенды. Чего одно его прозвище стоило — Генерал Застрелю! Как-то выведенный из терпения перебоями в двигателе, он тряс механика и орал на все летное поле: «Застрелю, сука! Что с мотором?»
Когда я увидел его на аэродроме, не сразу узнал: он растолстел, сильно обрюзг, но летал, судя по слухам, с охотой и задором. И вот картина: механик укладывает парашют в кабину, пыхтя и чертыхаясь сам затискивается в И-16. Командует механику:
— Придави плечо! Сильнее… коленом прижми, блядь… Ну и что — погон? Делай, блядь, как сказал — коленом…
Через пять минут, отдышавшись, он взлетает и показывает нам, необстрелянным, зеленым такой пилотаж, какой рвущимся на войну пацанам может только присниться. Потом он скажет:
— Не хайте ишачка, он постарел, факт, но еще кое-что может! Говорят: дело мастера боится. Да? Не повторяйте эту глупость. Мастер
Командир полка обратился к строю:
— Нам поставлена задача подготовить одну эскадрилью к ночным полетам. Срок назван, — он усмехнулся, — вчера. — Помолчал и скомандовал: — Кто когда-нибудь и на чем-нибудь летал ночью, два шага вперед.
Никогда и ни на чем я ночью не летал, но все-таки два шага сделал. А там, — подумал, — видно будет. И тут же началось чудо:
— Бери По-2, слетай на разведку погоды. И поторапливайся: скоро темнеть начнет.
Кружа над аэродром, я не сразу заметил, как начали проглядываться звезды. Бледные, вроде включенные в четверть накала, они медленно занимали весь небосвод. В воздухе накапливалась дымка, горизонт менял окраску, краснел… Поглядел вниз — на летном поле готовили ночной старт. Минут через двадцать я пошел было на снижение, но меня угнали на второй круг: по взлетной полосе волокли прожектора, машина со стартовым имуществом ползла следом. И тут мне пришла прекрасная мысль — проболтаюсь в воздухе еще минут с тридцать и на вопрос, а летал ли ты ночью, я смогу ответить честным — да!
Очарование ночи оказалось притягательным, оно брало в полон, не очень-то понимая, что со мной происходит, я праздновал! Вот угас накал горизонта, только что светившийся темно-красным тревожным цветом, горизонт стал почти черным; звезды над головой разгорелись в полный накал и принялись мне подмигивать… тут обнаружилось — показания приборов в кабине перестали читаться, пришлось включить ультрафиолетовую подсветку. Началась настоящая ночь, она нашептывала мне какие-то важные мысли, какие точно, не скажу, но определенно важные!
Приземлился я при подсветке прожектора, записав в летную книжку первые пятьдесят минут ночного налета. По-2 не МиГ, и я понимал это, но начало было положено. Так мой путь к ночным полетам на Яках, МиГах и прочих серьезных летательных аппаратах сократился, по крайней мере, на два года.
Еще не став летчиком-испытателем, а только начав приближение к этому миру избранников, я услыхал историю, в которую не знал, верить или нет.
Молодой испытатель облетывал первую машину серии и доложил: «Плохо отрывается от земли, вроде не достает мощности…» Мотор гоняли и так и этак, проверяли всеми доступными средствами, но ничего не обнаружили. Полетел старший испытатель. Еле-еле оторвался и тоже доложил — мощности на взлете не хватает. Тогда на аэродром приехал самый главный испытатель. Лететь он не спешил, все прохаживался вокруг машины, разглядывал ероплан и, наконец, высказался:
— Ну-ка, ну-ка, ну-ка, а не коротковаты ли у нее крылышки? Вызвали контрольного мастера:
— Обмерял машину?
— Что за вопрос, конечно, — и помахал складным метром, своим первым подручным инструментом.
— Ну-ка, ну-ка, ну-ка! Дай сюда! — Потребовал самый главный испытатель. — Глядите! В этом метре не хватает одного звена, а минус десять сантиметров на каждую плоскость — не пустяк…
Сказка ложь, как говорится, да не упрек, добру молодцу — урок.
Кто придумал это звание — Щит Героя, имея в виду ведомых, не знаю, но помню на войне оно имело широкое хождение и произносилось в разных тональностях — от поощрительно-хвалебной до издевательски уничижительной. Однажды мой ведомый сказал: «О герое молчу, а щит — это точно я». И он запросился к другому ведущему: то было его право. Что еще? Строго говоря — ничего; могу только доложить — я все еще жив и, вероятно, это главный довод в мою пользу.
Обыкновенно в летных школах на второй год никого не оставляли. Но тут случай был особый, прямо скажу, более чем необыкновенный. Сперва начальник нашей школы получил письмо: «Очень прошу, если только вы найдете возможным, зачислить курсантом тов…швили». И подпись — И. Сталин.
Надо ли говорить, возможность нашлась, и вскоре прибыл сам…швили. Он был строен, красив и феноменально безграмотен, как сам говорил: «Образование у нас с братом четыре класса на двоих». Рассказал, как отважился написать отцу народов, слезно умолял его помогите поступить в летную школу и клятвенно заверял, что готов заменить Чкалова.
В эскадрилье…швили прижился без труда, азы летной подготовки схватывал с легкостью. Правда, на теоретических зачетах случился прокол. На вопрос, какие атаки ему известны, он ответил: «Атаки бывают лобовые и под хвост». Что такое угол атаки? «Эсли — сбоку, от девяносто градусов, эсли под хвост, — без градусов, ноль…»
Рядили, гадали, что с ним делать? И оставили на второй год. До середины сорок третьего года я о нем ничего не слыхал. А тут случилось приземлиться в Шонгуе, смотрю на летном поле стоит ТБ-3. Подхожу и напарываюсь на…швили.
— Что ты тут делаешь?
— На этой гробине вторым лэтаю… А ты?
— Я — на «Лавочкиных».
— Счастливый! Мэня с истребителей турнули. Кадушку крутнул, низковато… за кусты чуть-чуть зацэпил… И вот…
Обратился ли снова к отцу народов за помощью, не знаю, говорил — собирается, но боится.
Скажу нам так: от любви одни неприятности! Закрутил с шикарной блондинкой, сперва не знал, что она дамочка замужняя… но все шло лучше не надо — и внешность подходящая, и фигура соответственная, а техника пилотирования так вообще на пять с плюсом. И вдруг — финиш! Отмашку она делает: убываю к мужу, не поминай лихом, называет, каким поездом едет, словом, — все.
Тот поезд я остановил. Трех лобовых атак машинист не выдержал, тормознул.
Обидно было — бросила, но что делать? Все — так все. Однако оказалось не все на этом. Месяца через полтора меня к командующему затребовали. Оказалось он в том же поезде в отпуск ехал и засек мою голубую шестерку.
— Зачем на поезд пикировал? Для чего остановил состав?
— Прощался…
— С кем?
— Этого, товарищ командующий, я вам ни за что не скажу…
— Она замужняя?
— Как вы догадались?
— Повезло тебе дураку, сам грешный, понимаю, и чтоб больше я о тебе не слышал.
В авиации очень ко двору пришелся такой взгляд на политработников: чем комиссар отличается от замполита?
Комиссар говорит:
— Делай, как я.
Замполит говорит:
— Делай, как я
С Игорем Эрлихом мы дружили долго и тесно. Однажды, помню, разошлись во мнениях по поводу воспитания детей. Он как отрубил тогда: «Давай обсуждать то, что нас объединяет, а не то, что разводит». Известный авиационный конструктор в чем-то он оставался сущим ребенком. Прихожу к Игорю и вижу, как он с увлечением пуляет из детского пистолетика палочками с присосками. И радуется: система работает безотказно. «Ты понимаешь, какая богатая идея! Мы поставим присоски на корабельный вариант палубного вертолета. И колес не надо! И надежнее, особенно при качке».
Об этом, мужики, стоит подумать: Адольф Целестин Пегу был сбит 13 июня пятнадцатого года, когда ему было двадцать шесть лет, а он уже успел полетать испытателем у Луи Блерио, не раз удивлял французов дерзким пилотажем, 19 августа тринадцатого года первым в порядке испытания выбросился из совершенно исправного самолета с парашютом. Несколько позже, оказался в Москве и публично обнимал в Политехническом институте Петра Николаевича Нестерова, признавая его приоритет в исполнении мертвой петли. СМИ, как теперь говорят, успели на весь мир раззвонить, будто первую петлю в небе завязал он, Пегу, расширив таким образом возможности военной авиации, набиравшей темп в предвидении боевых столкновений.
— Ты сколько лет уже пролетал?
— Десять, если считать с училищем.
— Подходяще, теперь скажи, чему за это время тебя научил самолет?
— Как это — самолет?
— Очень просто! Когда я завис в верхней точки петли, мне в морду насыпался, пожалуй, килограмм песка и мусора, я на всю жизнь был научен — не усаживайся в кабину, не вытерев ноги и не осмотрев как следует пола.
— Ну-у, если в таком смысле, то чему-то я тоже, наверное, научился. Но так сразу не отвечу, надо сначала подумать…
— Правильно, подумать надо, подумать никогда не мешает. Вот вообрази, жена не устает меня подковыривать — и что ты вилки, ложки по ранжиру в буфете раскладываешь, на кой черт шмотки в определенном и обязательно постоянном порядке развешиваешь, как не надоест! А это во мне, между прочим, не от старшинской дрессировки идет, а от почтения к самолетной кабине. Именно! В полете, особенно ночью, не дело искать нашаривать понадобившийся тебе в данный момент тумблер или рычаг, или кнопку. Руки должны сами «видеть» и не промахиваться. И этому меня машина научила.
— Все ты, наверное, правильно говоришь, только получается вроде в твоем представлении машина живое существо — научить может, помочь, рассказать…
— Иронизируешь? А зря! Учат не только слова, не только занудные инструкции, рассчитанные на среднестатистического пилотягу с сырым фитилем, учит опыт, приобретаемый в непосредственном общении…
— Это конечно, кто ж тут спорить станет.
— Когда я первый раз в жизни взлетел, а через шесть минут сел на бетонированную полосу, я от моего ероплана научился держать направление на пробеге убедительнее, чем из всех инструкции и панических предупреждений — утратишь бдительность, зевнешь, упустишь мгновение и самолет будет бит. А ероплан дал понять — держи меня двойными движениями: дал ножку и сразу ополовинил, и еще дал и опять ополовинил. Понял в каком смысле я тебя спросил, чему ты от самолета научился? Намотай на ус, еще пригодится…
Война закончилась, но еще раздавали ордена и медали, кое-кому вручали с запозданием звездочки на погоны. Бедовой летчице, отлетавшей всю войну на ночных «бомбардировщиках» По2, погоны майора пожелал вручить сам главнокомандующий, при этом он сказал:
— Поздравляй, майор, и надеюсь вскоре увидеть вас подполковником.
— Служу Советскому Союзу, — ответствовала свежеиспеченная майор. — По мирному времени предпочла бы быть под генералом, товарищ Главный Маршал авиации.
Той весной пришел к нам новый командир корабля. Что сказать о нем? Мужик как мужик. Летал нормально, с нами обращался то же нормально, но видок у него был — не дай бог. Поглядишь на него и кажется, будто пожевали человека, в чем-то вываляли, да еще и ботинки не чищенные… Вот мы и решили его малость «повоспитывать». В промежуточном порчу была у нас ночевка. Когда командир заснул, стащили его брюки и одну штанину нагладили до того, будто и не складка на ней образовалась, а бритвенное лезвие. Ну, и ждем утра.
Нашу заботу он сразу обнаружил, как только начал одеваться, и отреагировал моментально — сдернул штаны и с остервенением принялся их мять и тискать, скручивать и комкать. Все это — молчком, но со страстью необыкновенной…
Вот такой был человек. А летал, каждому бы так летать!
Иду мимо столовой. Случайно сквозь окно заметил Лешку. Вижу, этот заводила и мастер всяких розыгрышей около нашего накрытого стола трется. А до обеда оставалось еще с полчаса. Сразу подумал — не просто так он там околачивается, решил понаблюдать. И увидел, как он в мой компот перец, соль вытряхивает и посмеивается, гад. Ну, ладно, — решил я… И перед самым началом обеда аккуратненько произвел роккировочку — мой стакан переставил к его прибору, а его — к своему.
Пищу я принимал не торопясь. А Лешке, видать было, не терпелось с обедом покончить. Спешил, шакал. Ну и доспешился, как компотика хватанул, так у него глаза на лоб… Правильно: «не рой другому яму…» Как дальше, сами знаете.
Назову его совершенно условно майор Кашин. Когда в полк прибыл на пополнение Ленька Шварц, Кашин приказал командиру эскадрильи подготовить документы и перевести Шварца на штурмовики. Для Кашина, летчика сильнейшего и осмотрительного, такое решение показалось несколько странным, и командир эскадрильи, служивший у него под рукой с самого начала войны, спросил:
— А почему? Парень только что с отличием закончил курсы командиров звеньев, характеристики у него самые положительные…
— Не разводи демагогию, небось не хуже моего знаешь — от жидов в истребительной авиации толку не бывает.
Командир эскадрилий ничего писать не стал, а на следующий день с самого раннего утречка выпустил Шварца в самостоятельный полет.
— Тысяча метров над центром аэродрома. Покажи пилотаж. Не зарывайся только. Понял?
Разбуженный воем «Лавочкина», энергично кувыркавшегося в воздухе, Кашин примчался на летное поле и учинил разнос командиру эскадрильи.
— Если этот твой красавец побьет машину на посадке — под трибунал пойдет, а тебя сгоню на штурмовики; если он скозлит, — его на штурмовики, а тебя — в замы…
— А если — нет?
— Что — нет?
— Если нормально сядет? — Не без ехидства спросил командир эскадрилий.
— Не должно этого быть.
Много лет спустя мне рассказывал Ленька, как он встретил Кашина, кажется, во Львове.
— Сидим в ресторане, позвали метрдотеля. Подходит. Во фраке, седой, вполне импозантный. Я даже не сразу сообразил — Кашин! Замечаю — узнал он меня, но воротит морду.
— Метр, присмотрите за вашими, пусть поворачиваются быстрее, говорю ему, — у меня через час вылет. Вы знаете, что такое полетный план, надеюсь?
И-5 был самолетом с норовом, мог на разбеге свободно развернуться на полных 180 и взлететь в направлении, противоположном предполагаемому. Поэтому нас, начинающих истребителей, усиленно тренировали на специально подготовленных рулежных машинах. Часть обшивки с этих отслуживших свой век еропланов была снята, сектор газ снабжен упором… И вот заканчиваются полеты, мы шагаем к грузовику, инструктора улетают на главный аэродром, и тут выясняется один из наших учителей почему-то не улетел. С нами он тоже ехать вроде не собирается. Потом выяснилось — начальник отстранил его от полетов. За что? Да кто ж его знает, на то он и начальник. Приехали мы на главный аэродром, слышим кто-то летит вроде. И правда, на посадку заходит рулежная машина. К плоскостям у нее кое-как прикреплена фанера, скорее всего содранная с сортирной будки, а в кабине тот самый наказанный инструктор. Фамилию его называть не буду, а первые слова, что он произнес, зарулив свою гробину на линейку, процитирую:
— У меня тоже характер есть!
Был ли Маршал Советского Союза Тимошенко сам лично крохобором, не могу знать, но когда он лишил нас всех, выпускавшихся из летных школ перед войной, командирских званий и приказал летчикам быть сержантами, его холуи тут же позаботились — синюю парадную форму, предмет гордости авиаторов, отобрать, хотя форма была уже сшита по индивидуальным меркам и тщательно подогнана:, мало того — зажали и жалкие рубли, что удерживали из курсантского содержания, якобы на офицерские плащи, и выпустили нас в свободный полет в хббу — хлоп-чато-бумажном бывшем в употреблении, обмундировании. Вот такой нахальный обман имел место.
Половину нашего выпуска отправили в Забайкалье. Приехали и в тот же день видим — пятеро орлов вырядились в парадное офицерское обмундирование.
Видим и глазам своим не верим.
— Ребята, как это вы сумели?
— Очень просто, когда в последнем карауле стояли, грабанули маленько склад МТО — материально-технического обеспечения. Конечно, воровать плохо, а разве обманывать лучше?
Замечено, хотя научно не объяснено, как начинаются неприятности, так почему-то идут полосой. Начали мы усиленно осваивать полеты в сложняке, и пошли отказы авиагоризонтов. Полосой пошли! Как водится в таких случаях, совещания за совещанием собирают, метод советы проводят, словом раскручиваются мероприятия по сокращению предпосылок к чрезвычайным происшествиям.
Поднимается инженер со своего места и предлагает как временную меру, установить дублирующий авиагоризонт, местечко на приборной доске найти трудно, но он может!..
А как, по вашему, летчик узнает, какой из двух авиагоризонтов врет, а какой говорит правду? Может три авиагоризонта поставить, и решать задачу простым большинством голосов? — Вопрос этот задал Лавочкин, Семен Алексеевич умел задавать вопросы!
Дважды в жизни меня наказывала высота. Первый раз по собственной дури. Молодой был, глупый и решил определить свой, так сказать, персональный потолок. Полез вверх, не включая подачу кислорода на маску. Лезу и радуюсь, во как пру — уже шесть тысяч метров! и вроде ничего, только зевается что-то и в ушах как-то не совсем, а потом открываю глаза и обнаруживаю — машина валится к земле, на высотомере четыре тысячи метров осталось. В тот раз обошлось, отделался, как говорят, легким испугом.
Спустя много лет, в групповом полете на высоте близкой к потолку, на МиГе у меня лопнул герметизационный шланг фонаря. В себя я пришел в положении — на спине, земля рядом, связи нет. «Могло и хуже кончиться», — подумал я в тот момент. А что оглох и двигателя не слышу, даже не сообразил. И только зарулив на стоянку, увидел, как механик беззвучно шевелит губами, а я ну ничегошеньки не слышу, напугался капитально. Месяц меня ремонтировали в госпитале. Починили, к сожалению, не совсем, так что я точно знаю — с высотой осторожно обращаться надо.
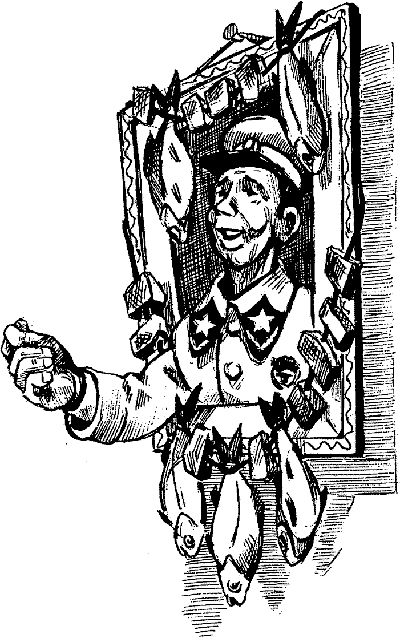 |
Мы едва начали выруливать из укрытий, как полеты почему-то отменили. Летный день был сорван. И какой день! Светло-голубой, прозрачный, схваченный легким предвесенним морозцем. Со стоянки я, грешник, отправился не в класс, где предполагалось спешно организовать занятия по воздушной стрельбе, а прямо в противоположную сторону — к лесу. Идти было трудно, мешало пудовое летное обмундирование, глубокий снег, а еще солнышко пригревавшее, несмотря на минусовую температуру. Куда я шел, не знаю, от чего уходил — могу сказать: от бесконечного повторения пройденного, от армейской рутины, от обрыдшей казарменной обстановки. Ушел я совсем не далеко: откуда-то подлетевшие птицы — штук пять ворон и сколько-то сорок — вдруг закувыркались над головой. Сперва я остановился, понаблюдал за происходившим, а когда понял — они ведут ожесточенный воздушный бой, лег на спину, опустил фильтровые очки на глаза и решил — а эта драка может, пожалуй, научит не хуже, чем наш занудный начальник воздушно-стрелковой службы.
Атаковали вороны. На вертикальном маневре они имели громадное преимущество и сознавали это. Правда, и сороки были не дуры, они лихо выходили из под ударов обалденными глубокими виражами. Мне показалось, сороки чего-то ожидают. И я не ошибся. С большим превышением к ним подлетело подкрепление и численное преимущество перешло к сорокам: вороны, уходя вверх, теряли скорость и тут их било сорочье подкрепление. Они, вороны, рванули было к земле, они классно пикировали, но и здесь их ожидал третий эшелон сорок.
А небо было синее-синее. И кажется, в тот день я понял главный закон истребителя, так блестяще сформулированный позже Покрышкиным — хозяин высоты — хозяин боя.
Страшное дело, ребята, как подумаю — я же по девятому десятку пошел! Вот вы на меня глядите и ручаюсь, не верите — этот старый гриб командиром эскадрилий был, на войне отличался, да не может того быть! Я и сам иногда в сомнение впадаю — летал? Штурмовиком значился? Триста семнадцать боевых вылетов отгрохал? И документы в порядке. Правда, самому странно. И встретиться с вами я знаете почему согласился, вовсе не похваляться победами своими и нашими общими, не поделиться опытом — какой мой опыт может вам сгодится?
Но одну вещь хочу вам передать, может сообщить просто, а уж как вы ее употребите, — ваша забота. Так вот, летал я на Ил-2, слыхали небось. Черная смерть немцы его называли… Так наши газеты любили писать. И не уставали объяснять на каждом шагу какой это золотой самолет был. Сам я тоже считал — лучше машины не может существовать. И вообще, разве кто-нибудь в состоянии создать ероплан, что с нашим советским потягается? Верил. И людям так говорил, пока уже после войны совершенно случайно, можно сказать, на американском бомбере не слетал. Батюшки светы! Да тот бомбер, против моего горбатого — это такое прозвание Ил-2 — одним пальчиком пилотировать можно было. И то был мне урок. Не хвались, не верь глупой болтовне. Замечаю, в последнее время опять старые нотки зазвучали: мы первые, мы самые-самые, да никому с нами не сравниться… Не надо, ребята, вот чего я хотел вам сказать.
Ваша профессия, я так скажу, гордая профессия! И не унижайте ее пустым трепом. Делом себя оказывайте, чтобы люди в восторг от вас приходили, а сами помалкивайте.
Факт совершенно подлинный, занесенный в историю войны —
Дальше начинается легенда, знающая несколько редакций, но в любом варианте, делающая, на мой взгляд, честь авиации — и той, и другой, а в еще большей степени — девушке, гвардии лейтенанту.
Ее вызвали в штаб и представили сбитому немцу. Едва взглянув на нее, он возмутился — обман! Насмешка!! Эта пигалица… меня?!.
Комдив сказал ей, сдерживая усмешку:
— А ну-ка покажи ему на ладошках, как дело было. Поймет!
Она показала. И он действительно понял.
Поняв, стал поспешно стаскивать с руки шикарные золотые часы на золотом браслете. Протягивая ей, сказал:
— Ваше мастерство, фройлен, ваша отвага заслуживают награды. Примите в память о честной победе в честном бою.
Она растерялась — брать, не брать… От врага… Комдив отвернулся, комиссар поглядывал неодобрительно.
— Ну, решение! — велела она себе. — Быстро!
Приняла награду из чужих рук, не разглядывая, сунула в карман и застучала коготком указательного пальца по своим штурманским часам. С трудом склеивая немецкие слова, объяснила:
— Дизе их кан пихт шенкен… эти не могу подарить… дизе зинд нормаусрюстунг… эти табельное имущество… Вот примите на память — и в руке у нее блеснул золотенький цилиндрик губной помады. Помада в сталинградские дни для женщин, желавших оставаться и на войне женщинами, была дороже золота и в табельное имущество не входила. Понял ли он это? Да кто ж знает…
Политначальничек со старшиной проверял курсантские тумбочки. Время — предвоенное. И обнаружил среди моего личного имущества немецко-русский словарь, пару книг не наших и какие-то записи на незнакомом ему языке. Меня на ковер. Велено объяснить — что это такое? Отвечаю: выполняю приказ товарища Сталина…
— Что-о-о? Какой такой приказ?
— Изучать вероятного противника… — И отстали.
Правила для воздухоплавателей были выработаны у нас в 1910 году. На любой полет требовалось полицейское разрешение. Депутат Думы Маклаков (левый) по этому поводу: «В то время, как все страны полетели на аэропланах… у нас… еще ни один человек не летает, а уже полицейские правила против употребления аэропланов изданы».
В ответ Марков-2-ой (правый): «Напрасно член Думы возмущается… прежде чем пустить людей летать, надо научить летать за ними полицейских…»
Сверхвезенье! В ночь с 6 на 7 июля 1915 года младший лейтенант Р. А. Дж. Варнфорд пролетел над дирижаблем LZ-37 с превышением в 40–50 метров и сбросил на него весь запас — шесть штук — девятикилограммовых бомб. Последняя попала в цель: дирижабль взорвался. Вот это и есть — сверхвезенье!
Александр Сергеевич Москалев не располагал сколько-нибудь определенной финансовой и производственной базой и тем не менее за десять лет сумел выпустить свыше двадцати самолетов — машин в значительной части экспериментальных, во многих отношениях новаторских, на некоторых были установлены рекорды; эти машины участвовали в больших перелетах.
Трудно себе представить беспедальное управление самолета. А было! Летчик Горжану сконструировал ручку, на которой красовался шгурнал, состоявший из двух «полубаранок». Левый сектор управлял элеронами, правый — рулем поворота. В воздухе управление действопало безотказно, но оставалось непонятным — к чему все эти ухищрения, если в конечном итоге они не дают никаких преимуществ перед обычным управлением? И идея, можно сказать, завяла, не оправдав себя.
Авиация подвергается регулярным атакам моды. Так, в середине тридцатых с легкой руки француза Анри Минье началось увлечение «небесными блохами» — «малокалиберными» самолетами, упрощенными до предела. Не обошло такое поветрие и России. На конкурс тридцать шестого года поступили 35 проектов, многие были уже построены, некоторые совсем неплохо летали. Потом мода прошла, как любая мода.
И-16 — истребитель Николая Поликарпова выпускался более чем в двадцати модификациях, и это, я думаю, кое о чем говорит само за себя.
На аэродроме ждали очень, ну очень высокое начальство. Были намечены смотрины новому самолету, на который возлагались колоссальные надежды. Создатели машины успели уже раззвонить — наша новая конструкция, иначе не назвать, — верх мыслимого совершенства. Правда, летчики и инженеры, испытывавшие аппарат были не столь блистательного мнения о самолете, но считали его перспективным.
И вот высокое начальство прибыло на летное поле, вот оно приближается к разрекламированному самолету и видит — вся конструкция, как новогодняя елка, увешана аккуратными бирками. Бирка указывает — вот тут такой дефект, а тут — этакий. Общим счетом бирок оказывается не меньше сотни. Естественно, немая сцена.
А самый, самый главный начальник, не повышая голоса, приказывает:
— Каждую бирку, по мере устранения дефекта, — на мой стол! Когда снимите все, приеду снова, поговорим серьезно. — И обращаясь к уважаемым создателям ероплана: Однако хороши вы, трепачи…
Представление о перегрузке у меня, разумеется, правда, основывалось больше на описании летчика-испытателя Коллинза. В своей книжке он рассказал, что при 9g чувствовал себя так, будто черт вытащил из него глаза, поиграл ими и вставил обратно. Акселерометр же я видел только на картинке, связать воедино показания этого прибора и ощущение летчика никак не мог. И вот получаю задание: четыре пикирования с выводом не ниже тысячи пятисот метров при перегрузке 4,5g.
Набрав три тысячи метров, вхожу в пикирование с углом градусов шестьдесят, выжидаю сколько-то времени и энергично тяну ручку на себя. Когда темнота в глазах рассеивается, вижу: на шкале акселерометра 4,1. Не добрал малость. Досадно. Пикирую снова, уголок увеличил, ручку тяну резвее и… 4,1. Что за черт! Валюсь в отвесном пикировании к земле, рву ручку двумя руками. С трудом прихожу в себя а на акселерометре все равно — 4,1.
С позором, не выполнив задания, приземляюсь. Уши заложены, настроение — хуже не придумать.
— Что же ты, балбес, не сообразил, — спрашивает командир отряда, — акселерометр не в порядке? Со второй попытки должен был допереть.
Теперь я знаю, что такое 4g и 5g и 7g и даже 9. И прибор не очень нужен, отличу задницей. Но не все дается сразу.
Увлекательное занятие — листать авиационную энциклопедию, но вот что повергает в шок — чуть не на каждой третьей странице напарываешься на стандартную фразу: «Был необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно» или в лучшем варианте — «Был необоснованно репрессирован, находясь в заключении, работал в ЦКБ НКВД» — то есть в тюремном конструкторском бюро.
Приведу один единственный персональный пример из множества:
Роберт Людовигович (Роберто Орос) Бартини (1897–1974)… в 1921 году стал членом образовавшейся тогда Итальянской компартии… В 1923 году после установления фашистского режима решением ЦК ИКП был нелегально отправлен в СССР, как авиационный инженер… с 1930 года начальник отдела НИИ ГВФ, главный конструктор. Создал дальний арктический разведчик (ДАР), самолеты «Сталь-6», на котором был установлен мировой рекорд скорости, «Сталь-7». Все его работы отличались новизной и инженерным дерзанием… С 1937 по 1947 провел в заключении. Реабилитирован лишь в 1956. Награжден орденом Ленина, Октябрьской революции, медалями.
Пример этот многое, я думаю, проясняет — если у нас сегодня есть все-таки авиация, это потому, что люди, подобные Бартини, жили и работали вопреки системе, уничтожавшей их, но оказавшейся неспособной победить интеллект, преданность небу, духовную связь с авиацией — частью великой культуры, а не просто видом вооруженных сил или еще одним средством транспорта.
Волею непредвиденных обстоятельств попалось мне немецкое архивное издание 1942 года, подробно перечислявшее 464 имени самых результативных германских летчиков первой мировой войны. Сама идея показалась заслуживающей внимания, в чем-то соответствовала нашему — «никто не забыт, ничто не забыто». Каждому герою отводилась ровно страничка, плотно заполненная текстом и страничка, занятая рисованным портретом, к слову, исполненным бездарно.
Читая историю за историей, я вдруг подумал — как же по-бухгалтерски звучит написанное: родился, учился, служил, сбил или отбомбил… даты, цифры. Новое имя и опять: родился… учился… служил… Странное совпадение: и мы педалируем на число сбитых самолетов противника, будто оно — универсальный показатель доблести. Сбитый самолет, даже всего один, убедительное свидетельство твоего превосходства над врагом, но единственное ли?
А сколько раз летчики, рискуя жизнью, вывозили подбитых товарищей с территории противника, случалось на
Представь, иду с севера на старом-старом Ли-2. На борту, кроме экипажа, восемь ученых дам. Правда, ученых. Они брали пробы воздуха, что-то замеряли на разных высотах и должны, опираясь на факты, дать заключение насколько опасно жить в тех районах, где мы сегодня побывали.
Меня, впрочем, тревожит совсем другое — где садиться? Аэродромы закрывают туманы, а там, где туманов нет, слепые метели. Видимость — ноль. И горючего остается не так уж много…
Командир корабля должен принять решение. Должен — понятно, для этого я и нахожусь на борту. Только не так оно просто, особенно, если земля подсказала: ничего не откроется, выработав горючее, покидайте борт с парашютами. Парашюты у нас действительно есть, благо полет считается экспериментальным и проводится в условиях повышенного риска. Но! Восемь дам, хоть и не в туфельках на каблуках-шпильках, но в экипировке вовсе не подходящей для крайнего севера. Да и не парашютистки мои дамы.
Мои? Пожалуй так, раз их судьба исключительно в моих руках.
А горючего делается все меньше.
Запрашиваю военный аэродром. Закрыт — отвечает земля. Ни высоты, ни видимости. Что делать? Иду на откровенный шантаж, будь, что будет. Передаю: я все равно буду приземляться у вас, включите радиосредства, иначе вас совесть после катастрофы замучает, которая вполне вероятно случится через двадцать семь минут.
Снижаюсь. Сплошная муть кругом. Ну вот, включили привода. И локатор подсказал — подверни вправо, скорость держи расчетную, можно чуть меньше. Дальний привод прошел. Слышу ближний. Высоты остается с гулькин нос… Не знаю как — сел. И не мог рулить по летному полю целый час, машина сопровождения заблудилась, и не отважилась двигаться вслепую, чтобы не напороться на мою машину. И такое было. А мораль? Нет ничего важнее в нашем деле, чем принять решение, во-первых, и во-вторых, не дергаться, не суетиться, всеми силами души помогать себе. Решил — выполняй, и выполнишь!
— …учти, мой отец еще с Чкаловым летал… И тут в тишину врывается мальчишеский, звонкий, словно колокольчик, голосок:
— Чкалов? Кто? Ты сказал Чкалов, деда, да… — в этот момент поезд набирает скорость и вагонный грохот не дает услышать, чем заканчивается разговор. Жаль.
А мысль о том мальчике из метро точит: что же с нами случилось, если молодые спрашивают, кто такой Чкалов, пожалуй, так скоро и о Гагарине забудут? Кого винить? Не их, потенциальных брокеров, менеджеров, килеров — новых героев эпохи! Иваны, не помнящие родства, — не они, а мы, и среди многих прочих авиаторы тоже, что особенно горько: ведь поколение летавших во времена Чкалова тем и отличалось ото всех людей, что было накрепко связано, уж извините за возвышенное словечко, узами воздушного братства. Тогда не очень-то говорили об этом, но каждый причастный знал — небо делает человека лучше, честнее, бескомпромисснее. На ближних подступах к стратосфере несклочничают, не строчат доносов, не подставляют своего ведущего под чужой огонь.
Общаться с немцами, спустя годы после войны, когда они перестали с ужасом реагировать на наши погоны и уже не спешили объявлять: Гитлер капут… я не немец, я — австриец, полагая таким образом дистанцироваться от фашистского прошлого страны, было не только любопытно, но и поучительно. Вспоминая такой разговор:
— Ты — летчик?
— И я — летчик.
— На чем летал?
— Ла-5, Ла-7.
— Ла-фюнф… Ла-зибен! О-о!
— Унд ду?
— Их аух истребитель… — И вроде спохватившись объясняет: ты, то есть, я должен понять, это была судьба — шиксаль, он не выбирал, она его выбрала и сделала истребителем. Понимаешь? Ферштейн?
— Пробую понять.
— Поверь, я говорю правду. Конечно, я стрелял по вашим самолетам, случалось удачно — они горели и падали, но я никогда никого не убивал намеренно…
— Это звучит довольно странно…
— Пойми, я — летчик, летчик, а не палач.
И тут вспомнилось. У ведущего кончился боезапас, он приказал мне добить дымивший Ю-87. Одной очереди хватило. Видел, как машина перешла в беспорядочное падение, как из кабины вывалился летчик, как он раскрыл парашют. Командир велел срубить фрица. Я не сказал — нет, но и стрелять по беспомощно висевшему на стропах немцу не стал. И подумал точно теми же словами, которые услышал только что: я — летчик, а не палач, это другая профессия.
Матерясь во все небо командир рубанул винтом по куполу, но получилось не здорово: стропы намотались на втулку винта и оба рухнули на землю.
Меня долго мучила совесть, грызли сомнения, житья не давала спецслужба: что было, как было, почему?.. Скорее всего и тот военный ужас забылся бы с годами, не случись этой встречи на немецкой земле.
Перед самой отправкой в Афганистан он заехал попрощаться, и мы так заговорились, что Юре пришлось заночевать у меня. Уже утром, когда оставалось только поручкаться, он вдруг спросил:
— Какие ц.у. будут?
— Не воображай себя до поры Кутузовым, осмотрись сперва. Раз. Слушай, что обстрелянные мужики говорят, не глядя на погон. Два. Раньше времени не строй из себя героя. Три. Ни пуху тебе, ни пера и пошли меня к черту. Все. Двигай.
Он вернулся через год в генеральских погонах, с седыми висками. И прежде, чем начал рассказывать о пережитом и прожитом, объявил мне благодарность. Я удивился и спросил — за что благодарность?
— На аэродроме меня ждала машина. Шофер, как я потом узнал, мобилизованный из Ташкента, не юноша, на гражданке — таксист. Сел рядом с ним, говорю: «Поехали». А он не едет. Спрашиваю: «В чем дело?» Старшина мне велит сиять фуражку, «или вам, товарищ полковник, надоело жить?» Не вспомни ваших ц.у., я б этого нахала отрегулировал, как полагается. К счастью, вспомнил. Фуражку снял и мы поехали. Дорогой объяснил: «Снайперы у них будь здоров, как стреляют. По кокарде точно бьют, только блеснет в темноте и — имеем груз двести». В часть прибыли благополучно, правда, лобовое стекло нам прострели, в верхний правый угол засадили…
Польский авиаконструктор Ежи Рудлицкий ввел в употребление V-образное хвостовое оперение, типа «бабочки». По идее это освобождало самолет от вертикальных органов управления и должно было улучшить условия стрельбы из задней турели. Наши конструктора «бабочкой» заинтересовались и, испытав ее в полетах, очень скоро разочаровались…
Первые самолеты Александра Яковлева маркировались так: АИР-1, АИР-2 и далее. Долгие годы аббревиатура АИР не расшифровывалась, хотя чего было таить, АИР — Алексей Иванович Рыков, председатель Совета Народных Комиссаров той поры, объявленный позже врагом народа и уничтоженный. Авиационная энциклопедия раскрыла аббревиатуру, но сделала это с достаточно нелепыми реверансами. Сам же Яковлев ответил на мой вопрос весьма четко:
— Чего такого удивительного, когда
Макс Иммельман погиб в воздушном бою. Через несколько дней на место падения его машины прилетели англичане и сбросили венок с надписью:
«Памяти лейтенанта Иммельмана, нашего храброго противника от британского военно-воздушного корпуса».
Сегодня о великих перелетах редко вспоминают, а между тем Никки Митчел и Ронда Майлз приняли на самолете М-5 235 участие в облете Земного шара, а наши Халида Макогонова и Наталья Винокурова выполнили свой участок пути на Ан-2.
В первый день «Бури в пустыне» авиация многонациональных сил выполнила 2107 вылетов и потеряла 7 самолетов. Ирак утерял 9 истребителей в воздушных боях и 18 транспортных и пассажирских самолетов в аэропорту Багдада.
Ту-104, Ту-110, Ту-124 — ближайшие родственники: у них общий прототип — знаменитый бомбардировщик Ту-16, габариты этих машин разные, но все компоновочные решения общие.
Джесика Дуброфф была самой юной летчицей мира, когда пытаясь пересечь на своей «Цеспе» всю Америку — от Тихого до Атлантического океанов, — потерпела катастрофу. Ее отца летчика-инструктора только потому не будет мучить совесть, что он погиб вместе с ней. А девочке было только
Сегодня редко и неохотно вспоминают о трагедии «Максима Горького», восьмимоторного громадного самолета, и все больше интересуются — было то столкновение Николая Благина, завязавшего петлю на И-5 вокруг крыла гиганта, или… предумышленный таран? Тогда погибли 46 человек, тридцать три пассажира, экипаж и сам виновник катастрофы Николай Благин. Такая направленность человеческого любопытства представляется несколько странной, впрочем, каждому — свое. В биографии этой удивительной машины меня всегда интересовало, прежде всего, да, пожалуй, и больше всего ее начало.
Первый полет на «Максиме Горьком» выполнил Михаил Громов. Это произошло 17 июня 1934 года. Полет продолжался 35 минут. А через день — 19 июня «Максим Горький» торжественно проплыл над Красной площадью, в то время как ликующие массы трудящихся встречали спасенных челюскинцев.
Как могло такое случился? Никогда не поверю, что инициатива исходила от педанта Громова, на Туполева тоже мало похоже… Ведь иначе, как авантюрный, такой полет нельзя назвать: самолет не прошел государственных испытаний, да и вообще, что это за налет 35 минут?
Конечно, все хорошо, что хорошо кончается, и все-таки нет-нет мысль возвращается к тому далекому событию, особенно если газеты сообщают о новой авиационной катастрофе.
Командир эскадрильи был человеком со странностями. Не могу его ни в чем упрекнуть: летал превосходно и вообще был истребителем, как говорят, от бога, вот только мучил нас постоянными поучениями и самодельными афоризмами. Звучали его мудрости довольно сально, хотя по большей части не были лишены смысла и, наверное, поэтому запоминались. «Всех баб не поимеешь, но стремиться к этому надо, — говорил он и непременно спрашивал, — верно я говорю? И с самолетами надо так — на всех типах не перелетаешь, но стремись!» И еще он нас учил: «Самолеты, как бабы, любят ласковые руки».
Еще из его репертуара: «Не спеши кончать пилотаж, пусть машина сперва вздрогнет… Понимаешь?»
В метро — двое, с ними мальчик лет двенадцати. На остановке, когда вагон на мгновение прослушивается, один мужчина говорит другому:
— В молодости я не сомневался, ты — летчик, значит должен управляться с любыми колесами — от велосипеда до автомашины. Первый урок автовождения я получил вприглядку, наблюдая, как запускают И-16. Автостартер подъезжал к самолету, останавливался на расстоянии сантиметров 10–15 от носа И-16, механик соединял храповик автостартера с самолетным, отбегал в сторону и кричал: «Запуск!» Тогда шофер приводил в действие свой агрегат и, как только самолетный мотор запускался, отъезжал задним ходом от стоянки.
Случилось, что в момент объявления тревоги шофера на месте не оказалось. Действуя не слишком осознанно, я влетел в кабину автостартера, проделал, что полагалось, и мой верный ишачок закрутил винтом, набирая обороты. Только тут я сообразил: неправильно включу скорость, чуть дернусь вперед, мой собственный ишачок покрошит меня дурака. Не умеешь — не лезь! Никогда раньше я не испытывал такого липучего страха, как в те ничтожные доли секунды, что отпускал сцепление и плавно прибавлял газ. Сумел. Отъехал благополучно, галопом вернулся в самолет. Правда, парашютные лямки застегивал уже в воздухе.
Трудно поверить, но и такое было: мы караулили японцев на восточной границе Монголии, большая война шла уже год и, по данным разведки, немцы всячески давили на японцев — пора включаться и вам, недаром же мы объявили на весь мир о создании оси Берлин-Токио. Отдельные полеты над Монголией японцы выполняли, вели, очевидно, разведку, действуя на больших высотах. Увы, на устаревших «ишачках» и тем более «Чайках» нам было их не догнать, если ж мы все-таки скребли высоту, и противник замечал нас, он, кувырнувшись переворотом, пикировал до высоты бреющего полета и преспокойно уходил на свою территорию.
Время шло, мы ждали худшего — ночных массовых налетов бомбардировщиков. И тогда нам, не обученным летать в темноте, объявили приказ в случае чего взлетать по темному, решительно атаковать противника и не делая попытки садиться, покидать И-16 ли, «Чайку» ли с парашютом.
Невероятно, но факт — и такое было. Правда ни одного подобного вылета не случилось, но ждали мы ночной тревоги не меньше года, а политорганы доносили, как успешно им удается сохранять личный состав.
Когда-то, кажется у Каверина, я прочитал о письме, которое мама прислала своему любимому сыночку-летчику. «Летай, сынок, потише и пониже, береги себя». Тогда в мальчишеские годы я очень веселился по поводу такой рекомендации, а теперь понимаю — мама-то наверняка хотела, как лучше, не представляя себе что это за каторга низкое летание да еще на больших скоростях, а если прибавить волнистый рельеф местности… Но ничего, мама, тяжело в учении, легко в бою. Знаешь, кто это сказал? Сам Суворов. Но мыто знаем — и в учении тяжелое это дело — брить самые низкие травы, а в бою — и того тяжелее. Но надо, чтобы жить и огорчать наших мам.
Знаменитым я никогда не был, но двадцать лет числился полярным летчиком, а это кое-чего значило. Доверие нам отпускали в свое время по двойной норме. И конечно, разнообразия в полетах хватало, хотя бы потому, что погода нас сопровождала истерическая — никого не можешь рассчитывать на благополучные условия посадки, всегда ждешь, а что через пять минут будет. Но человек, как показала жизнь, может к чему угодно приспособиться. И сегодня мне вспоминаются не столько ледовые посадки при ограниченной видимости, не столько заполярная экзотика и даже не удивительные цветовые переходы от нежно-розовых, палевых, до густо-красных и почти аспидно-черных, сколько преследующее меня виденье…
В самом начале моей работы я увидел на белейшем и бескрайнем просторе Заполярья, сменяющие друг друга серые одинаковые прямоугольники, вроде впрессованные в чарующую белизну. И не сразу понял, что это? Опросить у ребят постеснялся, а может проинтуичил — про это нельзя спрашивать. Со временем узнал, в большей степени — догадался, чем получил официальную информацию. Серыми квадратами и прямоугольниками, занимавшими километры и километры пространства, смотрелась с высоты полета — страна ГУЛАГ. Бог миловал, не довелось мне разглядеть эту территорию в упор. И никого я там не допрашивал, не охранял, не обслуживал, а чувство вины не покидает меня, отставного пилота полярной авиации. Почему? Сопричастен, как ни крути, это так.
Никому слепой полет — просто не дается. Когда управляешь самолетом исключительно по приборам, не видя естественного горизонта, приходится учинять над собой постоянное насилие: головой, собственным задом ты вполне отчетливо ощущаешь — лечу, например, с левым креном, а авиагоризонт показывает увеличивающийся правый крен. Хочешь не убиться — не верь собственным ощущениям, подчиняйся показаниям приборов, действуй согласуясь с их молчаливыми сигналами. Это трудно!
Далеко не сразу, но в конце концов я научился понимать язык авиагоризонта — его покачивания, подъемы и снижения, что проделывал маленький самолетный силуэтик вокруг черты искусственного неподвижного горизонта приобрели для меня не только теоретический смысл, но и силу приказа. Постепенно вырабатывался автоматизм движений и приходила уверенность — и в облаках смогу, и в ночи управлюсь…
И надо же, чтобы как раз в это время началась острейшая полемика, а что должно качаться за стеклом авиагоризонта — силуэтик самолета или сама черта, обозначающая линию горизонта. Теоретически вроде все равно. Когда поезд трогается со станции, вам же кажется, что это вокзал поехал или поезд, неподвижно стоящий на параллельном пути.
И вот я в кабине самолета, оборудованного экспериментальным авиагоризонтом с качающейся чертой искусственного горизонта, инспектор командует: закрой шторку, в кабине у меня становится темновато, небо «пропадает» и самолет буквально через пару минут выходит из моего подчинения, машина ковыляет, словно пьяная, я дергаю ручку туда-сюда и все больше невпопад…
Дело не в отстранении от слепых полетов, которое последовало незамедлительно, хотя это было достаточно неприятно, дело в том, что я утратил перу в самого себя. Не могу я, хоть сдохни, понимать этот авиагоризонт.
В конце концов мне повезло. Нет, я не пересилил себя, а голоса, требовавшие сохранения подвижного «самолетика» при неподвижном «горизонте» оказались в большинстве, и все вернулось на круги своя, и снова я залетал, как прежде, и в облаках и в ночи.
Як-42 «вырастал» из Як-40 и по замыслу конструктора должен был унаследовать прямые крылья. На то имелись серьезные основания, в том числе возможность эксплуатировать машину на 740 аэродромах. Но министр гражданской авиации настаивал и настоял на варианте со стреловидными крыльями. В этом случае Як-42 имел большую скорость 820 против 750 км/час, но принимать его могли только 36 аэропортов нашей страны. Между сильными мира — завязалась нешуточная, иначе не назовешь, драчка. В результате в серию пошла машина со стреловидными крыльями.
Машину эту ждала беда и даже далеко не одна. По дороге на Парижский салон самолет перед приземлением на промежуточном летном поле, потеряв скорость перед самым выравниваем, провалился и сгорел. Вину свалили на экипаж. Но когда второй Як-42 потерпел катастрофу, в которой погибли все пассажиры и экипаж, был суд. Трех конструкторов ОКБ признали виновными и всех троих лишили свободы на один год каждого (условно) и приговорили к штрафу по три тысячи рублей.
Сразу же взялись за доработку, руководить работой поручили ответственному и предельно энергичному человеку. Казалось бы сделано все, чтобы восстановить честь фирмы. Но министр Бугаев все не давал добро на возобновление полетов и приемку новых машин. В конце концов председатель Совета Министров Тихонов призвал к себе Бугаева и спросил — доколе? Тот молча передал Тихонову бумагу с предложением отправить Яковлева на пенсию. Яковлев отчаянно сопротивлялся, но безуспешно…
Яковлева отстранили, а Як-42 приступил работе и все еще работает.
Известно, Лилиенталь написал «Полет птиц, как основа искусства летания». Это был серьезный научный труд, провиденческая работа. А за десять лет разошлись всего триста экземпляров.
Репортерская братия всегда тяготела к сенсациям. В июле 1909 г. «Волгарь» с удовольствием сообщает, что Луи Блерио в первый же день пребывания «на берегах туманного Альбиона получил 9000 писем, 705 — с приглашением на обед и 226 с предложением построить самолет». Лихой репортер подсчитал сколько дней и недель господин Блерио мог бы питаться «совершенно бесплатно» и какое бы нажил состояние, прими он эти замечательные предложения.
В свое время знаменитый фантаст Герберт Уэллс писал: «Нетрудно поверить, что еще до 2000 года — возможно, что уже в 1950 году, — будет изобретен такой аэроплан, который поднимется и благополучно вернется на свое место».
Из приказа кайзера Вильгельма 2: «Я желаю, чтобы мои авиаторы стояли на той же высоте своего искусства, на которой стоят русские». Приказ датирован 1915 годом.
Вам не приходило в голову, что братья Райт сперва были летчиками-испытателями, потом — летчиками-инструкторами и только в конце концов — просто пилотами? Хоть и странная, но совершенно неизбежная закономерность для авиации ранних лет.
Никогда не упускайте из виду: «В конечном итоге вся ответственность ложится на пилота».
У одного из самых популярных авиаторов-пионеров Сантоса Дюмона был девиз: «Хочу — могу».
Жил-был такой летчик-испытатель Джимми Коллинз, как понимаете, американец. Кроме того, что он здорово летал, как и полагается настоящему испытателю, Коллинз еще весьма успешно занимался журналистикой. В конце тридцатых годов о нем узнали и в России, переведя книгу под скромным названием «Летчик-испытатель», характеризуя это событие Чкалов отозвался об авторе: «Он обладал не только исключительными летными способностями, но и литературным дарованием». И Байдуков поддержал Чкалова: «Коллинз внушает симпатии и как человек чистой души, и как талантливый писатель, и как прекрасный летчик-испытатель». Сегодня эту книгу, пожалуй, и днем с огнем не найдешь. А жаль! Перескажу один только сюжет, каким он мне запомнился и думаю, — оцените, не меня, конечно, а Коллинза.
Инструктор насколько было возможно подрулил к берегу, не глуша мотора, проворно выбрался на плоскость, перегнулся в кабину к Коллинзу и заговорил:
— Нормально слетал, выпускаю самостоятельно. Хочу только напомнить — приводнение требует повышенного внимания: водная поверхность особенно в безветрие и при солнце обманчива. Зеркалка, мы говорим. Расслабишься и можешь ошибиться в высоте выравнивания. Понял? Давай, будь внимательным. Лети, а я пошел… — с этими словами инструктор, некоторое время не летавший на амфибии, бодро шагнул в воду.
И не так-то просто поверить, что веселый, жизнерадостный человек опубликовал в этой же книге рассказ «Я мертв», с поразительными подробностями изобразив свою собственную катастрофу, которая вскоре случилась.
Мы были сводным отрядом столичных аэроклубов, начинающими пилотами, кандидатами в сталинские соколы, малой толикой от обещанных ста тысяч военных летчиков, которых готовили в преддверии войны. По случаю предстоявшего майского парада на Красной площади нам выдали нежно-голубые, очень новенькие комбинезоны, синие пилотки и белые матерчатые тапочки на резиновом ходу. Три недели нас учили и требовали: выше ножку, равнение, равнение держать, а это совсем не просто держать равнение в шеренге из тридцати шести человек! А еще надо было браво отвечать на приветствия старших начальников и оглушительно орать «Ура!», когда нас станут поздравлять с праздником. Пока мы тренировались прикасаться к парадной амуниции запрещалось: пилотки, комбинезоны, тапочки, то есть мы должны были с головы и до ног выглядеть совершенно новенькими, этакими свежеотчеканенными гривенничками…
Праздник наступил. Нас разбудили в половине пятого утра, накормили и за два часа до начала парада вывели на ближние подступы к Красной площади. Все торопили — не опоздать бы! И вот оно наконец — на Спасской башне бьют часы, и сразу «цокают копыта Ворошилова», как сообщила в отчете вечерняя газета. Никогда не забыть растерянное лицо Ворошилова, когда он осадил коня перед нашим строем, очевидно не мог сообразить, кто бы это мог быть перед ним — в белых тапочках? Мало, белых, так еще с синенькими каемочками…
Ворошилов вскинул руку к козырьку и натужно выкрикнул:
— Здравствуйте, товарищи парашютисты!
— Здрав… желам… товр… — во все легкие отвечаем мы… Церемония продолжается, но праздник для нас молодых и глупых пропал. Он обозвал нас парашютистами! Мы же летчики, пусть мы и прыгали с парашютом, но все равно мы — летчики, мы без пяти минут сталинские соколы.
Новый второй пилот, что пришел в наш экипаж, был очень молод, краснощек и весьма подвижен. В нем жило что-то мальчиковое. Звали малого Филипп, но экипаж, не сговариваясь, окрестил его почему-то Филиппок. Он не обижался.
В то время мы работали главным образом в чартерных рейсах, летали, куда пошлют, вне расписания и никогда не знали, насколько может затянуться маршрут. Бывало до пункта назначения топаем часа два — три, а там сидим в тупом ожидании и день и неделю. Филиппок с непривычки нервничал, рвался в полет, донимал меня расспросами:
— Как вы можете, командир, торчать тут без дела?
— У тебя есть предложение?
— Нет… но нельзя же так…
— Выходит можно. Такая у нас работа. И потом, заметь, я не сижу без дела — видишь, читаю, расту над собой.
— Ну, что за интерес, — не унимался Филиппок, заглядывая в мои книги, — шелестеть этими старыми страничками. Пусть история и полезная вещь, только сколько же можно про одно и то же?
— Можно и нужно. Тебе советую — попробуй сам.
— А зачем?
— Наша авиационная история исключительно полезная и занимательная штука, ее обязательно надо знать, чтобы не повторять чужих ошибок, раз; чтобы на примерах достойного поведения предшественников совершенствовать свои возможности…
— Ну, вы прямо, как замполит меня агитируете, — съехидничал Филиппок.
— А еще знаешь, какая в таком чтении польза? — проигнорировал я его реплику. — В профилактике чванства. Ведь без этого, пожалуй, и не понять суть воздушного братства.
Филиппок скептически улыбался, слушая меня, всем своим видом демонстрируя: пой, пташечка, пой… где сядешь?.. А я думал — лет через десять бы потолковать с тобой, когда налетаешь тысяч пять часов, когда хлебнешь всякого и научишься главному в нашем деле — ждать.
Мой сосед капитан Анодин не уставал жаловаться: «От такой жизни сдохнуть можно, — и перечислял, загибая пальцы: — вместо кино в офицерском клубе показывают туманные картинки, что такое танцы давно позабыли, гарнизонную библиотеку растащили по квартирам, в качестве развлечения остаются одни сплетни, по и те скучные… Сколько служу, такого маразма еще не видел, надо что-то делать пока совсем не одичали».
И «сделал»! Как-то вечером за Анодинской дверью раздался адский грохот и следом с порога потянуло паленым. Перепуганные соседи кинулись на выручку, гадая; что же там могло произойти. После первого же стука, улыбающийся Миша распахнул дверь, и все увидели — по середине комнаты горкой высились ножи, вилки и прочие ложки. Хозяин пояснил: «Зря, ребята, забеспокоились. Валя неслась с кухни, зацепилась за ковер и все добро вместе с подносом рухнуло на пол. А подванивает потому, что у нее на кухне жратва пригорела, она от расстройства про нее позабыла. Все одно к одному. Еще и кот наш сбежал. Теперь скандал будет всенепременно! Он, как из дома срывается, так принимается с чужих балконов пропитание добывать. Не смейтесь, небось и у вас на балконе какая-нибудь еда лежит?! А он, гад, здорово насобачился таскать… даже и нам перепадает… да-а, сперва, конечно, сам нажрется, а потом домой притаранит и у двери бросит — с барского плеча, так я понимаю, нам и детишкам…
Что ж вы думаете? С неделю весь гарнизон только тем и был занят, что обсуждал это чепе. Замполит возмущался, хотя формально к Анодину было не придраться, но все ожидали, чего он еще выдумает и наврет для всеобщего развлечения публики…
В двадцать четыре года Пьер Глостерман был признан первым летчиком-истребителем Франции, прославлен и награжден. Он вышел из войны не однажды сбитым, но яростно неукротимым и, главное, живым, записав на свой личный счет тридцать три победы в воздушных боях. Им издана любопытная книга, составленная из его записей военного времени, которые он вел для своих родителей, чтобы они, в случае, если он не вернется, могли объективно оценить его вклад в победу. Из этой книги мне удалось узнать кое-что заслуживающее особого внимания.
Под самый занавес тех событий был сбит ас из асов люфтваффе Вальтер Новотный. Завалил его Боб Кларк, ведомый Глостермана. И вот в тот день, когда союзнические летчики получили официальное подтверждение — Новотный сбит, они собрались в офицерской столовой, подняли бокалы в память своего достойного врага. Глостерман пишет: «Эта война видела ужасную человеческую бойню города, превращенные в пепел и мусор, видела резню Орадура и руины Гамбурга. Нам было тяжело на сердце, когда случалось, атакуя противника, косить своими очередями женщин и детей, оказавшихся рядом. По сравнению с этим наши бои с Новотным и его мессершмиттами были куда чище и благороднее того, что происходило на земле.
Сегодня мы приветствуем храброго врага, который не ушел от своей судьбы, и причисляем Новотного к одному из числа
Проще всего обвинить автора «Большой арены» в авиачванстве, можно не соглашаться с Глостерманом, по вера в воздушное братство содержит продуктивное начало. И не зря асы второй мировой войны организовались в клубы, ассоциации и интенсивно налаживают связи с подобными объединениями в других страна.
В тот день были наземные стрельбы. И мне досталось дежурить на полигоне. Вижу — заходит на стрельбу очередной ишачок, пикирует… Ниже… ниже… Опасно низко… Стреляю из ракетницы — сигнал прекратить стрельбу! Но — поздно. Гончар, как понимаю, тянет машину изо всех сил, ишак уже поднял свой тупой нос, но осадка продолжается, и зазор между заснеженной землей и самолетным брюхом становится все меньше, пока вовсе не исчезает. Взметается столбом снег, слышен, правда, не слишком сильный удар и — тишина. Бежим к самолету.
Первое, что видим: кабина пустая. Повезло Гончару, нарушение спасло парню жизнь: он летал не пристегнутый страховочным поясом, а удар о землю получился скользящий, так сказать, касательный, и Гончара выкинуло из кабины силой инерции. Он угодил в сугроб и даже ни царапины, ни синяка не получил. Правда, в снегу он стоял босой и дико матерился: унты с него слетели, а морозец был за двадцать, нормальный забайкальский морозец.
Поверить в такое, что уж говорить, не просто, но в том-то и сила авиации — чего только в полетах не происходит, не каждый, конечно, день, но все же.
Тогда мы летали на персонально закрепленным за каждым самолетом. И этого дня — получения своей машины — ждали, как награды и праздника. Особенно впервые, после окончания летной школы и прибытия в часть.
Пришел и мой час.
Мне досталась голубая семерка — бортовой номер. С величайшим тщанием осмотрев самолет, я принял от механика формуляр — документ, в котором записывают все происходящие в жизни машины, и раскрыл его, готовясь расписаться в приемке машины. И тут у меня затряслись руки. На первом листе прочел: «Самолет облетан. Годен к эксплуатации в частях ВВС. Летчик-испытатель — В. Чкалов».
Такой встречи с моим мальчишеским богом я никак не ожидал. И посчитал за подарок судьбы. Пожалуй, не зря подумал: еще месяц назад летал и надеюсь, не в последний раз.
Вероятно, вы слышали такое имя — Аршдакон. Он был одним из первых и деятельнейших болельщиков авиации. Но мало кто знает, что 13 ноября в компании с Постом и Манго он летел на аэростате. В Вильбефе решили сделать остановку. Ветер не слишком благоприятствовал их полету. Аршдакон покинул корзину аэростата, а Лост и Манго полетели дальше, они пытались пересечь Ламанш. Увы… отважные воздухоплаватели погибли. Судьба сохранила авиации Аршдакона, в тот день он сделался ярым приверженцем «святого винта», преданным сторонником летания на аппаратах тяжелее воздуха и дожил до торжества братьев Райт.
Впечатляющее занятие знакомство с авиационной статистикой. Только один пример: в 1909 году одна катастрофа приходилась на 11600 километров налета, а в 1913 году — одна на 389600, выходит за 5 лет летать стало в 30 раз безопаснее.
Первое катапультирование из самолета у нас в стране выполнил испытатель Г. Кондратов 24 июня 1947 г. А подготовка к этому событию началась еще в 1938 году. Тогда была построена термобарокамера, «поднимавшая» исследователей на высоту в 20 километров, в температуру –60 градусов. Первыми испытателями высотных скафандров стали летчики Д. С. Зосим, С. Н. Анохин, И. И. Шунейко.
Начало принципам проектирования летательных аппаратов в России заложил А. В. Эвальд. Речь шла о машине с неподвижным крылом: «… приняв все сделанные нами наблюдения за основные данные при наших исследованиях и сопоставив их одно с другим, мы придем к возможности начертить идеальный проект самолета…» Эти слова Эвальд написал в 1863 году, наблюдения он вел за птицами. Обратите внимание — термин «самолет» прозвучал тогда впервые. В восьми пунктах, следовавших за приведенной цитатой, были четко и со совершенно правильно изложены основные принципы устройства еще не существовавшего, но предсказанного им летательного аппарата.
Если человек собирается посвятить себя авиации, я бы рекомендовал ему прежде всего выбрать «с кого делать жизнь». Не называю имен: в авиации такой удивительный выбор замечательных людей, что никакие «общие рекомендации» тут не проходят. Искать надо самому. И еще — учите английский. Почему? Все небо над миром ведет радиообмен на английском языке, так сложилось исторически.
Дело давнее, времен Халхин-Гола. Дежурный мог мне доложить о наводнении, пожаре, коллективной пьянке, но о краже на аэродроме в военное время — это казалось немыслимым. Но красной шелковой скатерти действительно не было, и посреди комиссарского кабинета стоял голый стол с фиолетовыми пятнами на грязной крышке. Поручив начальнику штаба разобраться, я уехал на летное поле.
Накануне на совещании командир забайкальской эскадрильи, влившейся в наш столичный полк, попросив слова, сказал:
— Так
Ему возразил интендант:
— Сочувствую, но, увы, помочь не могу: шарфики пока еще не предусмотрены перечнем летного обмундирования. Придется обходиться, капитан.
Пока ехал на летное поле, успел подумать, а, пожалуй, он прав, капитан. Делать по шесть, а то и восемь вылетов в день, как нам приходилось, можно и вовсе без головы остаться.
Эскадрилья капитана Овчинникова только что вылетала на перехват. Вернулись минут через сорок. Все. Овчинников докладывал: потерь нет, сбили два самолета, один ушел ковыляя.
Он стоял передо мной возбужденный, задорный, смелый капитан, и теребил концы ярко-красного шелкового шарфа.
— Скатерть? — спросил я.
— Так точно. У комиссара со стола стащили. Всем хватило. Командир обязан быть строгим и справедливым, это даже в уставе записано. Поэтому я приказал сам себе: молчи.
В мае сорок пятого на ступеньках рейхстага мне повстречался плотный, моложавый подполковник, он выводил на одной из колонн: «Долетел, сбил 17». Из-под новенькой кожаной куртки выглядывал сильно полинявший красный шелк. Мы обнялись и расцеловались.
— Скатерть? — спросил я, показывая на полинявший шелк.
— Она. Дожила, командир!
Тогда я еще и не начинал летать. По малолетству. Но авиацией сильно интересовался и, чем дальше, тем глубже в летные дела погружался. Модели строил, читал книжки про летчиков; пытался основы аэродинамики постигнуть, словом, дорогу свою на будущее определил. Отец к моим увлечениям относился без понимания. Почему — не знаю. Он на счетах все больше щелкал, а в свободное от работы время готов был просиживать штаны за преферансом. Такая у него страсть имелась. С чего он завелся меня в тот раз критиковать, честно говоря, я уже и не помню.
— В летчики решил идти, а что это за работа — летчик? Подумал? Взвесил? Воздушный извозчик! — И столько пренебрежения в его голосе прозвучало — не передать! Теперь думаю — зря, я ведь десять лет с ним не разговаривал, как отрубило с того дня. Не хорошо получилось, сознаю. Он ко мне с пренебрежением отнесся, я ему той же монетой отплатил, и дорастал до взрослости при отце и без отца. Со своими детьми веду другую политику, пренебрежением ничего достичь нельзя. Этому, между прочим, меня тоже авиация обучила.
Сначала приведу полный текст одного письма.
Это письмо, датированное июлем 1944 года, было написано Антуаном де Сент-Экзюпери его матери. Оно было получено ею в июле 1945 года, через год после гибели Антуана, А теперь прочитайте внимательно его письмо еще раз, И не ищите ничего мистического в случившемся, главное-то не в почте, главное в самом Экзюпери-человеке и, настаиваю, —
В молодые годы, скажу откровенно, я люто ненавидел всякого рода правила, наставления, уставы, инструкции — всю эту бумажность, что нас заставляли зубрить чуть ли наизусть, а потом еще постоянно сдавать зачеты. И как придирались! Ты назвал третий пункт раньше второго! Пересдавать, а пока от полетов отстраняемся. И так продолжалось не год и не два. И вдруг напоролся на высказывание Ривьера, героя Экзюпери из «Ночного полета»: «Правила похожи на религиозные обряды: они кажутся нелепыми, но они воспитывают людей». Воспитывают в том смысле, подумал я тогда, что приучают человека творить насилие над собой, жить по принципу — не так важно «хочу» или «не хочу», как «надо» или «не надо». Нельзя быть летчиком и жить для себя, жить приходиться для дела, которому ты решил служить. Решил по собственной воле!
У всякого начинания должен быть конец, так диктует логика. Но что делать нам? Когда, где поставить завершающую точку, если авиационные байки сами собой притекают и притекают, если новые сюжеты не дают спокойно спать художнику Владимиру Романову, в каком-то смысле не только оформителю книжки, но и соавтору? Мы уговариваем себя: сколько веревочке ни виться, а концу быть. Вроде давно и мудро сказано, а точка все не ставится и не ставится.
Может, так и должно быть? Байки рождает жизнь, и пока в небе еще гудят авиационные двигатели, пока существует летное дело со всеми его неизбежностями, как положительного так и отрицательного знака, конца байкам и не должно и не может быть. Поэтому смело нарушаю закон грамматики и не ставлю никакого знака, а говорю: до свидания, друзья-читатели,
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |