"Два Вальки Моторина" - читать интересную книгу автора (Панизовская Галина)
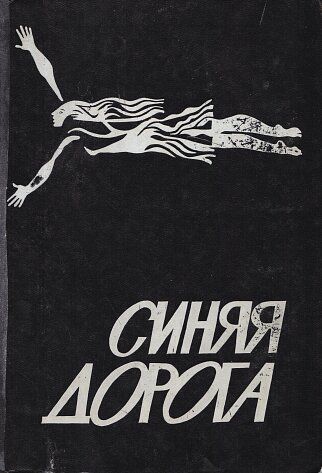 |
Галина Панизовская ДВА ВАЛЬКИ МОТОРИНА
 |
повесть
Я брел по дворам, а письмо потихоньку шуршало в кармане. Давно бы мне догадаться его написать. Что там творится с родителями — страшно подумать!.. Я жил в этом другом измерении уже вторую неделю…
Одно за одним загорались окна. Но от стола для пинг-понга все еще доносились стук мячика и голоса ребят. Счастливые — они были у себя, никто их никуда не переносил…
— Валет! Где пропадаешь? Иди к нам! — замахал издали Герка.
Но ведь Герка был
У Вити-восьмиклассника, наверное, сидели гости. Оттуда слышались мелодии Битлсов — острый, захватывающий ритм: "Хой-хейт! Хой-хейт!". Битлсы в обоих измерениях были совершенно одинаковые… Ноги сами задвигались в такт. И этой танцующей походкой понесли меня в соседний подъезд, откуда был ход на чердак и на крышу.
Про этот глубокий каменный колодец-двор не знал никто. Его составляли глухие, без единого окошка стены домов: четыре глухие стены в пять этажей высотой. Посреди двора виднелись две башни с куполками, стоящие на треногах. В куполках открывались порой люки, и оттуда что-то выдвигалось, вращалось… А были ли здесь люди и как они попадали в этот каменный мешок, разглядеть не удавалось. Да и сам колодец и куполки можно увидеть лишь с крыши дома с изразцами, если влезть на нее по пожарной лестнице с крыши двухэтажного флигелька, да и то только с единственного места: у третьей трубы, считая от второго чердачного окна, если прижаться к трубе с той стороны, где пятно, похожее на собачью морду.
Я двигался осторожно, хотя знал тут уже каждый выступ. Где-то били часы: "бум… бум… бум…" На ночных крышах все звуки громче. "Шесть, семь… десять", — считал я. Это происходило сразу после одиннадцати. Если, конечно, происходило вообще. Потому что частенько я ждал напрасно. Ждал, и коченел, и чуть не умирал при мысли; "А что, если
Но тут внутри у меня екнуло — на ближайшем куполке поднялась и начала расти знакомая тень… Я видел это уже раз двадцать. И все равно каждый раз было немного странно. Больше всего тень была похожа на громадного грифа, такого как в зоопарке. Гриф вытянулся вверх, развернув огромные крылья, и будто хочет взлететь, но не просто так, а строго вертикально, как стартует космическая ракета… Хочет взлететь, но не взлетает, а медленно поворачивается вокруг себя, опираясь о купол острым хвостом. А из центра грифа — из туловища — выходит и дрожа поворачивается вместе с ним голубоватый лучик.
Вот он — самое для меня главное, моя надежда — лучик! Я не отвел бы от него глаз, даже если бы рядом выстрелили из пушки!.. Лучик полз ко мне. Медленно. Но ко мне. Ближе. Еще ближе… Вот он коснулся края крыши, на которой я стоял. Но на этом краю не удержался бы и воробышек… Я свесился навстречу, придерживаясь за трубу вытянутыми руками… Стоило лучу коснуться меня хоть на миг — как я очутился бы в
— Подползи еще! Ну пожалуйста! Ну хоть чуть!
Но гриф замер, минуту постоял неподвижно и двинулся в обратном направлении. А с ним и луч… Я просто рычал от досады. А ведь, казалось, не слишком и надеялся, ведь так происходило всегда с тех самых пор, как я сюда попал: лучик не доползал — в том и загвоздка! Чаще всего он не дотягивался и до крыши, полз лишь по стенам… Потому-то, не надеясь, что он скоро изменит свои привычки, я и написал домой письмецо…
Непослушными пальцами я достал его, упакованное в конверт вместе с камешком: чтобы не отнесло ветром. Осталось швырнуть его в уползающую голубую полоску. Но тут я засомневался: "В самом деле, откуда известно, что луч может доставить письмо домой? Ну а если не доставит? Тогда оно останется висеть над этим странным двором? Внутрь двора не проникало ничего — это-то я уже знал. А может быть, оно попадет в чьи-то чужие руки, и что из этого выйдет — неизвестно… Нет-нет, надо сперва проверить «почтальонские» свойства луча"…
Я быстро вытряхнул содержимое своих карманов: карандаш, резинка, фантик от барбариски…
Вот это было зрелище! Фантик с завернутой в него резинкой луч просто схватил на лету, будто поймал в ладошку. Потом, плывя в блеклом луче, фантик распрямился. Резинка парила рядом. И оба завертелись вокруг в голубоватом мерцании, как щепки в водовороте. Будто всасывались в невидимую воронку. И всосались — исчезли.
Тогда, прицелясь как можно точнее, я поручил лучу и свой конверт. Луч подхватил его, понес… В голову пришло, что может быть он поймает на лету и меня? Может, взять и прыгнуть?.. Но луч был уже далеко.
Мой ключ подходил к дверям
На дверях и нашей и
Я вошел и, не зажигая света, повесил куртку. Но
— Валек, ты?
Эта мама тоже называла меня Валек… Я жил тут вместо их сына —
— Я, мамуль, — отозвался я, — спи!
— Там молоко. Возьми в холодильнике.
Я жил здесь уже вторую неделю и знал, что другого Валю Моторина тоже поили на ночь молоком. И из такой же желтой кружки. Но только этот другой здешний Валя не имел, видно, привычки чуть что убегать из дому, а то его мать не отнеслась бы к моим поздним прогулкам так спокойно.
— Валек, скажи… все будет в порядке?
Это означало: "Валек, ты нынче не исчезнешь?"
— Да-да. Не беспокойся, мам.
Я думал, что говорю правду.
Исчезать я не собирался никогда. Это выходило вдруг. Что-то вселялось в меня и давило, и жгло, и идти домой я просто не мог… Случалось это, когда мне не везло… Дело в том, что родители мои — люди чрезвычайно везучие,
"Везучие" — если бы это слышал папа, то сказал бы, что это совсем не то слово и что таких людей не бывает вообще, а бывают талантливые, трудолюбивые и добрые… Можно подумать, что сам выбираешь, каким родиться тебе…
Мой папа, например, читал серьезные книги с трех или даже, кажется, с двух лет. Зато как он меня запрезирал, когда я в четыре года не справился с простыми слогами!
— Ах ты неуч! Неграмотный несчастный кретин!
В тот раз я еще не убежал, а только залез под тахту. Там во тьме было спокойнее. И, подавив в горле слезы, я объявил оттуда: ничего, мол, ты, папка, не знаешь, а я уже в девятом классе!.. Должен же я был чем-то его поразить!.. Но тут вмешалась мама,
— Антон, не кипятись, — засмеялась она. — Ребенок имеет право на фантазию!..
Нет, у меня прекрасные
А с
— Валек! Выпей молоко сейчас. Не оставляй.
Голос у другой мамы был не такой, как у моей, — хрипловатый и грустный. Сейчас это было особенно заметно. Грусть, сгустившись, будто висела в воздухе…
Я уже знал, что это может значить. И, бросив взгляд в угол, убедился, что прав: под вешалкой сиротливо стояли мамины лодочки, а папиных полуботинок там не было…
Нет, как этот положительный человек — мой двойник — допустил, чтобы его папа ходил-гулял где-то в первом часу ночи?..
От возмущения я захлебнулся молоком, брякнул кружкой о тумбочку и нырнул под свое одеяло. Что
Меня бил озноб. Но я заставил себя не дрожать и сказал: "Чего это ты расстраиваешься из-за чужих Моториных? Пусть живут как хотят. Ты все равно что-нибудь да придумаешь и возвратишься к своим…" Это было резонно, если бы не слышать поскрипывание маминой тахты.
Папа пришел через час. Лязгнул замок, папа постоял в прихожей и на цыпочках двинулся в ванную. Пол у нас (и у них) скрипит. Если идти на цыпочках, скрипит еще сильнее. Но мама затаилась, будто не слышит, а спит. А папа разыгрывал, будто верит, что она спит, И так они оба притворялись… Мне хотелось завыть.
Я сунул голову под подушку и не слышал, да и не хотел слышать, как он там мылся, как укладывался… Только успокаивал себя: "Это не мои родители. Не мои!"…
И тут пришла мысль, которая, собственно, должна бы была явиться с самого начала: раз я перенесся в этот мир, значит, другой, здешний Валя, очутился в моем. Мы поменялись… Скорее всего, закон природы, которого еще никто пока не знал, но который управлял нашими с ним перемещениями, не разрешал, чтобы мы оказывались в одном мире — оба вместе… Стоило лишь представить, как мы являемся с ним в школу — два совершенно одинаковых рыжих и патлатых Вали — и просим хором: "Эльфрида Григорьевна! Разрешите отработать за промотанную практику?" Вот была бы потеха…
Я даже хихикнул, И услышал вдруг ответный звук. Он шел с полу, будто там тоже кто-то давился смехом… Может быть, кот? Соседский кот Пит запрыгивал иногда ко мне в форточку.
— Кис-кис-кис, — такого приглашения хватило бы, чтобы Пит прыгнул на меня всеми лапами.
Прыжка не последовало… Но странный звук возник опять. Теперь он был ближе, кроме смешков слышалось шуршание, будто кто-то полз…
— Кто?.. Кто здесь? — Я сел. И замер: у моих тапочек, подмяв коврик, лежал я сам!.. Нет, мое отражение —
Не так уж мы были и похожи: он выглядел лет так всего на одиннадцать, а ведь я (это признают все) мог иногда сойти за семиклассника. И лицо у него было не совсем мое — нос глядел вбок.
— Слушай, — шепнул он, — я вырвался к тебе на секундочку. Луч пока не доползает… А ты вот что, ты не бросай больше писем… Хорошо еще, что поймал я сам…
Он держал в руке мой конверт — значит, все-таки дошло…
— Учти, если под лучик попадет только кто-то один, то мы все равно переместимся оба. Это называется "пространственная пара"… За твой разбитый магнитофон досталось, кстати, мне…
"Почему он ползает?" — тупо думалось мне. Это почему-то заинтересовало меня больше всего, я раскрыл было рот, чтоб спросить. Но губы, оказывается, одеревенели и не шевелились… А двойник все лежал на сбитом коврике и бубнил:
— Еще прошу, ты не бегай больше из дому… Нет, правда… А то, знаешь, моя мама…
Ну, это уж было слишком! Во-первых, в
— Валь! Вспомни!.. Помнишь вокзал? А там папа и нервная… как ее?.. Лидия… Лидия…
Лидия? Это имя не говорило мне ничего. Но он пытался, видно, припомнить еще и отчество и очень торопился. За его спиной возник откуда-то и пополз длинный лучик…
— Это важно, слушай… Лидия… Ли…
Луч коснулся Валиного затылка. И оба исчезли: и Валя, и луч. На месте, где только что лежало его тело, остался лишь мятый коврик.
Проснувшись чуть свет, я долго глядел на складки половика, они будто обрисовывали мальчишескую фигуру… История с чужим магнитофоном, о которой говорил мой двойник, произошла со мной еще в моем измерении, а в этом другом измерении с другим Валькой ничего такого, видимо, не случилось. Вот почему никто здесь об этом даже не вспоминал. А история была жуткая. И то, что я угодил в этот другой мир, вышло в конечном счете именно из-за нее.
Началось все с того, что Герке купили магнитофон, То есть это был не совсем чтобы настоящий «маг» — приставка к приемнику марки «Нота-М». И купили ее, может быть, не только Герке. Но так или иначе у единственного друга, у Герки, появился все равно что магнитофон. Лента, правда, была пока одна. Геркин папа записал на ней песню "Темная ночь" в собственном исполнении. На другой день мы с Геркой, как только вернулись из школы, поставили приставку на подоконник и распахнули рамы. К нам ворвался очень свежий воздух — плюс два градуса Цельсия. А во двор вырвалась "Темная ночь", усиленная нашей приставкой раз в сто…
И сразу под окнами возникли восьмиклассники — Витя и Сережа, У этих ребят просто чутье на магнитофоны… До сих пор они глядели на нас с Геркой, будто на стенку, в крайнем случае орали: "Эй, шкет!" А тут оба запрокинули головы. И Витя сказал Герке:
— Исполать тебе, хозяин! С обновочкой!
Герка был ошеломлен такой честью. К тому же, наверное, не знал, что такое "исполать!". И потому сказал лишь:
— Хм…
— Спасибо на добром слове, — в тон Вите ответил я.
Но Витя будто и не слышал. Он продолжал спрашивать Герку:
— И когда приобрел?
— Хм, — повторил тот: он не привык к слову "приобрел".
— Вчера! — выкрикнул я.
Витя не услышал и тут. Он обращался лишь к Герке;
— Хотелось знать, когда приобрел и какая, бишь, марочка?
Вот это было главное — он вообразил небось, что магнитофон японский… Герке же разубеждать не хотелось. И он буркнул:
— Родители приобрели.
Но я уже не вникал в смысл разговора. Я следил за движением выпуклых Витиных глаз: ведь я торчал в оконном проеме прямо посередке, а его глаза ухитрялись скользнуть мимо, да так, что даже вдруг подумалось: "А может, меня тут и вправду нет?" Но я был. Просто у меня не было магнитофона.
А вокруг Вити с Сережей собралась уже публика — ребятня со дворов, — в основном малолетки, но и они заметили Витино ко мне небрежение. Надо было что-то срочно делать, чтобы не стать навек дворовым посмешищем… И тут в довершение всего в сторонке у левой арки мелькнула серая в розах косынка. Такая могла быть только у одного человека — у Катерины. Да, то была Катерина — двоюродная сестра Ники Вознесенской из третьего двора, студентка первого курса. Только она могла прислониться к тумбе так непринужденно…
Не успев это как следует осознать, я уже несся вниз по лестнице — к себе домой… А через минутку был уже здесь опять, но теперь в самой прекрасной в мире дубленке с портативным магом через плечо… Я знал, что в такой экипировке буду замечен всеми: восьмиклассниками, и Колей-студентом, и даже… даже…
И опоздал, Катерины во дворе уже не было.
Катерина исчезала всегда — такое уж у нее было свойство. Впрочем, на сей раз я мог бы проскользнуть через проходную парадную под Никины окна: Катерина тут у нас не жила, а шла, конечно, к сестре Нике в гости. Но ребятня окружила меня кольцом, а Герка, скатившийся вниз, и Витя с Сережей дергали магнитофон за ремешок:
— Валет! Ой! Покаж!.. Дай взглянуть!.. Ка-кая машина!
Вот когда Витя меня заметил! Зато я не видел его в упор; сделав безразличное лицо, я поглядел мимо. Там, за кустами дворового садика крупно вышагивали синьковые джинсы и рыжая куртка Володи — знакомого маминых знакомых, нашего гостя и столичного журналиста.
Ему-то и принадлежали дубленка и роскошный репортерский маг…
Мы бежали вверх по лестнице: впереди — я, мой Герка — за мной. К счастью, мы заскочили в тот самый подъезд — с незапертым ходом на чердак… "Это надо же, чтобы Володя-гость вернулся так рано как раз сегодня! Обычно он задерживался допоздна. Но может быть, он не успел меня заметить?" На последней площадке я глянул в окно. Нарядная куртка пересекла двор, явно направляясь за нами. Тогда я кинулся еще выше.
Чердак такое место, где мало кто станет тебя искать. Потому хотя бы, что чердаки в наших домах почти все на запоре… Мы с Геркой прислонились к темной балке.
— Ты что? Это чей? Чей? — он задыхался от бега и любопытства.
Но я шепнул, прислушиваясь: "Тс-с-с-с!"
Да, дверь в самом деле дребезжала.
Когда кто-то поднимается по ступенькам последнего лестничного марша, обитая железом чердачная дверь начинает дребезжать. Это знает каждый, кто привык пересиживать неприятности среди балок. На такой случай необходим, конечно, путь отступления. И он у нас был: мы всегда успевали выбраться в оконце, пробежать шажок по плоской кровле и нырнуть в лаз совсем другого чердачного помещения… Нацелились и теперь. Но что такое? На нашем пути, установив этюдник и гуашь, поводя ехидным носом, сидела та самая Ника. Нашла же где рисовать! Да еще в момент, когда к ней, дурехе, пожаловала такая гостья — Катерина!
— Эй, герои! — тоненько пропела Ника, — от Витьки бегаете?
Мы вылезли наружу, но она высунулась вслед. А убежище, куда вел наш запасной лаз, не имело иных выходов. Прыгать в него при этой ябеде Нике — все равно что забираться в капкан…
Пришлось проскочить дальше и бежать наугад по узкой гремящей крыше…
Дома в старом городском центре лепятся друг к другу вовсе без промежутков. Они прислоняются плечами, перекидываются арками и галереями, обнимаются фасадами, обмениваются флигелями и отталкиваются колодцами дворов. А крыши их, как горные хребты с ущельями, обрывами, плато и узкими тропами. А чердачные окна — как ходы пещер…
Мы с Геркой бежали, заворачивали, ныряли в одни пещеры, выныривали из других. Пронеслись над пропастью нашего второго двора, над ущельем третьего, а кровля гнулась и гремела, угрожая обнаружить для всех наш путь и заставляя бежать все дальше.
Герка свистнул вдруг:
— Прыгай!
Мы спрыгнули на старинный флигелек, взлетели на противоположную стену по пожарной лесенке… Место тут было абсолютно незнакомое, даже странно, что по нашим родным крышам можно, оказывается, добраться до такого места… Мы огляделись. И увидели внизу тот самый глухой колодец из камня, а в нем как раз вращался тот самый гриф…
Некоторые люди угадывают свое призвание не сразу. Так и я. До сих пор неясно — кем буду. Может быть, потому, что меня слишком часто спрашивали об этом в детстве: "Какой умный мальчик. А кем ты мечтаешь быть?" Отвечал я, что придет на ум: "массажистом в бане" или «клоуном». Наша детсадовская группа в то время разделилась: половина решила стать космонавтами, другая половина — специалистами-открывателями общей теории физических полей. Но все это были детские игры. А вот мой друг Герка собирается в космос всерьез. Этому он посвящает каждую минутку. И если его куда-нибудь зовешь, а для космоса это не нужно, то он не пойдет. Правда, для космоса нужно почти все: спорт, естественные науки, техника. Особенно радиотехника.
Вот почему так потряс Герку вертящийся гриф:
— Ой! Антенна! Гляди! Пеленгует!.. Пеленгует!
От восторга он прямо стонал. Антенны видятся Герке повсюду. Но тут он был прав.
— Да это же испытательная база от какого-нибудь научного секретного института! Потому и спрятана… Как думаешь, Валет, что это они тут проверяют? Приводы для спутников связи? Или, может быть, это аппаратура для приема внеземных сигналов? А?.. Но возможно, отсюда наблюдают неопознанные летающие объекты…
Догадки били из Герки фонтаном — он был человеком начитанным.
Между тем дело происходило при ярком дневном свете, и лучика видно не было. Я о нем тогда и не подозревал. Сам гриф не произвел на меня впечатления: ну, подумаешь, антенна как антенна. Тем более он немного повращался и провалился себе в свой купол, — так же как это происходило потом всегда. Но потрясенный Герка продержал меня там почти дотемна — он намертво влюбился во всю эту чертовщину.
Это было еще в
Ну а потом, когда я угодил в этот другой мир, вернее, когда я это окончательно понял… Я думал тогда всю ночь, а на рассвете мне все стало ясно, и ноги сами принесли меня под Геркино окошко. Глаза щурились — в них падал солнечный блик от стекла и мешал рассмотреть, открыта ли форточка. Но какая разница? Просто надо свистнуть коротким двойным посвистом, а потом ещё раз — точно так же. Высунется заспанный Герка: "Привет, Валет! Ты чего?" — "Чего-чего! Дело есть!"
Только это будет не мой —
Может быть, двойник друга все же лучше, чем ничего? Я стоял, уговаривая себя, что это так и есть. Поговорить с кем-нибудь по душам было просто необходимо. Только вот как сказать то, о чем хочется рассказать? Скажешь, например: "Герк! Я попал в другое измерение". А он в ответ: "Вот те на! А я? Я что, тоже, по-твоему, там?" — "Ты? — скажу. — Ну как бы тебе пояснить?.. В общем, ты ведь не мой, ты — другой Герка". А он возьмет и ехидно покрутит пальцем у виска…
Прогнозы получались неутешительные. Но я все же свистнул.
— Ну? — Герка выскочил в один миг, как и полагается другу. А я так ведь и не придумал, с чего начать разговор. И потому брякнул первое попавшееся:
— Когда идешь на базу?
Можно было ждать всякого. Может быть, другой Герка о базе вообще не слыхивал. Тогда он выкатит свои круглые глаза и скажет с придыханием: "Какая такая база?" Ну а если этот
Герка потянулся и небрежно бросил:
— Да никогда. Некогда. В гараж спешу.
Говорить было больше не о чем. Но потянулся он так по-геркиному, запрокидывая тонкую шею… И я спросил невольно:
— В какой еще гараж?
— В Малаховский. Там у дяди Гриши «Жигуль» стоит. Красить будем: корпус — в серый, крылышки — в бежевый. Зато дядя Гриша к осени водить научит.
Бубнил он небрежно, а сам был ужасно как горд, что ему предстоит такая прекрасная гаражная жизнь. Вот уж на
— А как же внеземные контакты?
— Чего-о-о?
— Ну, космические задачи, что осуществляют на базе. Сам ты говорил… Ведь тебе же для твоего Главного Дела…
— Мура зеленая! — перебил он, — Детство. То ли дело машина: сядешь и едешь… Шофер всегда на хлеб с маслом себе заработает…
Что это был за тип? Он сам напоминал дядю Гришу, когда тот подминает колесами своего «Жигуля» дворовые кусты… И хотя у этого Герки большой Геркин рот и широкие Геркины зубы — он
— Погоди, Валет! — сказал этот тип. — Знаешь, давай попросим дядь Гришу, пусть учит и тебя…
Может быть, он и мог быть кому-нибудь неплохим другом. Но мне-то нужен был
Мой Герка — целеустремленный космолетчик, в тот день, когда мы открыли базу, стоял над ней до самых сумерек: все ждал, чтобы грифа-антенну выставили опять.
— Идем, Герк! Ну что тут смотреть-то? — спросил я.
— Это ты, Валет, прав: без бинокля тут не видно… Захватим бинокль — и сейчас же назад.
Этого еще мне не хватало!.. Я огрызнулся:
— Брось!.. Если это взаправду база, так рабочий день окончился. Прийти можно завтра…
Мне было не до грифа. Чужая дубленка давила, маг, казалось бы, такой небольшой, тянул, будто гиря, И до чего нелепо вышло — взял ведь случайно на какие-нибудь десять минут. Но попробуй теперь объясни это маме! Я просто видел ее лицо с чуть выпяченной губой и слышал презрительную тишину, которой она меня встретит… А папа будет постукивать пальцами по спинке стула… Как родители они меня, конечно, любят, но в душе все равно презирают… Достаточно видеть, как мама качает головой: "Нет, не о таком сыне я мечтала…" Когда что-нибудь у меня не так, все их презрение особенно вылезает наружу.
Эти мысли меня угнетали.
Но одновременно перед глазами вставал Никин двор — девчонки хихикали там на лавочках. Коля-студент важно щелкал зажигалкой. Внезапно смешки гасли, Коля смятенно совал горящую зажигалку в карман — это шел я, помахивая классным магнитофоном. А из Никиного окна мне вслед глядела Катерина…
А в самом деле, ну что тут такого? Ну что произойдет, если я прошвырнусь вот так разок по дворам? Володе надоело небось за мной бегать…
Подумав так, я позвал грозно:
— Герк! Идешь? Или я уйду один!
И он покорился.
Я думал: "Сейчас спущусь и еще успею пройтись. Ведь ни папы, ни мамы наверняка еще нет дома. Надо только успеть, пока их нет. Перед Володей-гостем я потом извинюсь. Ничего ведь с его чудным магом не станет…"
Тут я ошибался.
Как легко, оказывается, заблудиться на крышах! Мы бродили между труб, заворачивали за выступы, залезали на чердаки. Чердаки попадались все глухие — запертые; флигелек с черепицей, по которому мы сюда влезли, будто сгинул. Выбрались мы, когда уже стемнело, через чердачный лаз по темной лесенке в глухую подворотню. И сразу услышали:
— Гони-ка сюда маг!
Трое взрослых парней, лет так по двадцать, приближались к нам, сверля фонариками.
— И тулупчик сымай. Поносил и будет. Пусть теперь другие…
Парень тянулся к моим плечам.
— Беги! — заорал Герка и ринулся на него снизу.
Ну как могли эти трое знать, что малыш Герка ринется в бой, даже если против него не какие-то парни, а стотонные динозавры?
От неожиданности парень покачнулся и сел. Мы бросились в образовавшуюся брешь. Но кто-то успел стукнуть меня по кисти руки…
Когда, оторвавшись от погони, мы остановились в нашем дворе под фонарем, Герка потирал подбитый глаз, а я прижимал к себе разбитые пальцы и с ужасом глядел на чужой магнитофон с оторванной ручкой.
Но ручка — это еще ничего в сравнении с тем, какая каша была, должно быть, у магнитофона внутри: в ушах все еще стоял стон, с каким он, выпав из моей разжавшейся руки, ударился о мостовую…
Тот вечер мне не забыть никогда… Глухо, будто издали, доносился Геркин шепот:
— Ерунда, Валет, ей-ей ерунда — раз плюнуть! Взять сейчас тут, разобрать и починить…
Герка тянул свои руки, но я оттолкнул их: заглядывать в маг было страшно. А главное — без пользы: что-то звенело в нем и болталось…
— Не хочешь, как хочешь, — гнусил Герка.
— Ох, Герк, слушай, шел бы ты скорее домой…
Озноб, возникая где-то у лопаток, охватывал меня всего, стучали зубы…
Дрожащими руками я уложил на нашу лестничную площадку Володину дубленку, поставил рядом раненый магнитофон, нажал кнопку звонка и кинулся на пол-этажа вниз… Хорошо бы, открыла не мама… Я знал, моя мама сразу все поймет и начнет просить: "Валёк, не надо. Не убегай. Прошу тебя. Бегство не выход…" Когда меня нет, мама не может заснуть, а потому она скажет: "Иди сюда. И давай все спокойно обсудим". Как бы не так!.. Это сейчас, пока меня нет, ей, может быть, и кажется, будто она так спокойна. А буду я рядом — и возмущение возьмет в ней верх, голос сделается брезгливым: "Давай с тобой посмотрим правде в глаза. Ну что ты собой представляешь? Самовлюбленный павиан…"
Я знал все наперед. А все же слышать, как она станет умолять, очень не хотелось. Пусть бы открыл мне Володя. В крайнем случае, папа. Папа считал, что всему виной мамин слепой материнский инстинкт… Если откроет папа, то промолчит или скажет: "Валентин! Ты что? Хочешь, чтобы тебя просили?"
Ничего я такого не хотел. Сердце билось так, что подрагивала лестница.
Дверь не открывали.
Пришлось повторить маневр. И с тем же результатом. Родители, значит, еще не пришли. И Володи-гостя тоже, оказывается, не было… Мою задачу это только осложняло. Приходилось отпирать самому и самому вносить дубленку и магнитофон, а домашние или кто-то из них могли ведь появиться в любую секунду…
Торопясь, стараясь не думать ни о чем, я сунул вещи гостя туда, откуда брал. И успел выкатиться прочь, прихватив с собой свой теплый плащик.
Может быть, кто-то воображает, что убегать из дому бог весть как приятно?.. Дрогнешь в пустых сырых подворотнях, а за окошками, при свете, в тепле люди пьют себе чай с вареньем и с бубликами. И улыбаются: ни перед кем они не виноваты… А если даже тебе повезет: кто-то выставит на лестницу старое кресло, то и пригревшись в нем, все равно ощутишь внутри тоску и холод. Будто это не кресло, а необитаемый остров, к которому уже не придут корабли.
Я уснул лишь с рассветом, повернув кресло к стене.
Так начались те последние странные дни, когда я жил еще в родном измерении, но уже немножко в нем и не жил… Во всяком случае, родного дома у меня в те дни уже не было.
На следующее утро я столкнулся с Геркой.
— Наконец-то, Валет, — заорал он с ходу. — Бежим!
Он был в отцовых альпинистских сапогах с шипами, на шее болтался театральный бинокль. А бежать он собрался, конечно, на базу. Мне же все равно было теперь куда идти.
Я приготовился к долгой ходьбе — вчера мы брели минут так пятнадцать. И какой дорогой! От лазанья и прыжков до сих пор болели икры. Правда, теперь я даже радовался такому пути: все-таки отвлекает… Однако стоило нам вылезти на крышу, Герка как заорет:
— Нет-нет! Не туда. Давай за мной, сворачивай!
Мы свернули за чердачный козырек, сделали два прыжка — и вот он знакомый каменный мешок! Я только и мог сказать:
— Послушай! А их что? Две?
— Сто две!.. А ты не думал, Валет, что, может, сегодня рано-рано кто-то уже лазал здесь и отыскал этот ближайший путь?
Вот это да! Чтобы мой Герка — такая соня — да поднялся рано-рано?.. Впрочем, ему при его будущей специальности надо учиться преодолевать недостатки…
Но на базе не происходило сейчас ничего.
Единственное на что стоило глядеть, был Геркин заплывший глаз. Потрясающий синячище! Багровое переходило в оранжевое, оранжевое — в изумрудно-зеленое, и все замыкалось в черную рамку, точно как на картине "Рассвет в космосе". Это украшение навело на мысль о доме, и я спросил:
— А мои предки звонили вчера твоим?
Не хотел я про это ни думать, ни тем более спрашивать! Ну что с того, что, увидев дома искалеченный магнитофон, мама стала искать меня, обзванивая знакомых? Она делала так всегда…
— Да нет. Не слыхал. Не звонили.
Если бы не этот ответ, я, наверное, не вошел бы уже в свою квартиру ни разу…
Сперва я надавливал на звонок как всегда — отбежав на пол-этажа. Потом вставлял в замок ключ, а в мозгу роилось: "Почему она не звонила? Заболела? Отправили в больницу?" И пальцы дрожали, мешая отпирать. Припомнились папины слова: "А ты доведешь-таки мать до инфаркта!" Билась одна лишь мысль: "Господи! Да я больше ни за что!.. Никогда-никогда!.. Пусть бы только обошлось вот теперь…"
И обошлось. На стене в передней белела записка: "Валёк! Шуба уже зашита. Магнитофон починим. Не убегай больше. Целую. Мама".
Уф! Я вздохнул с облегчением… Мамина подушка пахла, как пахнет одна моя мама. Мамой пахло и в платяном шкафу, где в углу на гвозде висел ее белый запасной халат… В прошлом году, когда я убежал из дому в первый раз, мама не пошла даже на работу. Но больным врач нужен каждый день, а мама — врач в туберкулезном институте. Записки мама писала всегда ласковые. Я прямо видел, как при бледном утреннем свете у столика в прихожей уже в пальто мама стоя пишет мне на своем медицинском бланке…
Выскочив на кухню, я схватил со сковородки картофелину — не ел ведь со вчерашнего дня. Облизал пальцы. И набрал было номер маминого рабочего телефона, готовый сказать: "Мамуль! Это я…" Но тут в голову пришла одна мысль — и я бросился по комнатам, заглядывая в углы, распахивая шкафы, выдвигая ящики. Я искал… Ан нет, Володиного магнитофона не было нигде.
"Эх, дурень-дурень! — говорил я себе. — Если уж брать у Володи маг, так не вчера. Брать надо было сегодня!.." Я вспомнил, что как раз сегодня — двадцать девятого мая — день рождения Ники из нашего шестого «а». И на него непременно прибудет ее сестра Катерина.
Дело в том, что на Никин день меня в этот раз не пригласили. Когда мы были маленькие, тетя Инга — Никина мама всегда меня к ним звала. Но теперь распоряжалась сама Ника.
Однако если бы в руках у меня оказался настоящий репортерский маг… С ним можно и без зова прийти куда угодно. Я пришел бы, а Катерина бы сказала: "Ой, какой прекрасный маг!" А я сказал бы ей: "Здравствуй"…
А может, в крайнем случае, подойдет и немного сломанный маг? Я мог бы сказать потом: "Ах, а я не знал, что он сломался!"
Но магнитофона не было нигде-нигде: сдали уже, наверное, в ремонт. Между тем пошел уже пятый час — маме звонить поздно, она скоро придет сама…
Мысль эта меня испугала. Неужели вот сейчас придется встретиться с родителями с глазу на глаз? Я чувствовал теперь, что этого просто не смогу. Во всяком случае не так сразу. Может быть, чуть позже, когда соберусь с силами?
И, забыв данное себе обещание, я бросился прочь. Но все же задержался, чтобы начертать поперек маминой записки огромными печатными буквами: "Жив и здоров!"
Если бы Нина Александровна — тетя Нина с папиной работы — училась в нашем классе, ее бы так и звали: «Нравиться». Это было ее любимое слово, она произносила его в минуту раз пять. Но мама говорила, что смеяться над этим просто грех, ведь тетя Нина самый добрый человек в округе.
Так считала не одна только мама. Тетя Нина переехала к нам во дворы недавно, и у папы на работе она была тоже новенькая, но доброту ее признавали уже все.
Испытал ее на себе и я, хотя было это, правду сказать, не так уж приятно: тетя Нина притащила вдруг к папе на работу аквариум для моих будущих рыбок. (Папа считал почему-то, что для моего гармоничного развития необходимы рыбки. Но считал он так давно: когда я был еще в пятом классе. Тогда аквариума не достали.) И надо же было, чтоб мы с моим Геркой завернули на папину работу как раз в тот день! Хотели попросить на кино. Папы в отделе не было. А вокруг тети Нининого стола собралась небольшая толпа и говорила разом:
— Какая роскошь! Да это же целое море! Нина Александровна, вы ангел во плоти!.. Нина! Вы с ума сошли — такая хрупкая женщина и таскать такую тяжесть! Да я б никогда, ни ради каких разлюбимых детей!
Тут они заметили нас с Геркой и начали:
— А, сам герой дня! Он как почувствовал!.. Валя, ты только взгляни, что тебе принесла наша тетя Нина!
Аквариум был гигантский.
— Валя, ты рад? Хотел такой?
По правде сказать, рыбки мне были ни к чему. Я хотел собаку — ирландского сеттера, я назвал бы его Лорд…
— Рад. Хотел. Спасибо вам, тетя Нина.
И пришлось нам с Геркой вместо кино тащить на себе домой эту огромную банку… Но тетя Нина была тут ни при чем: откуда ей знать, что я хочу не рыбок, а Лорда?
Теперь тетя Нина помогала тете Инге печь именинный пирог. Через приоткрытую форточку слышно было, как они переговариваются на кухне: сперва обсуждали, сколько класть изюму, потом втыкали свечки — тринадцать свечей по числу полных Никиных лет…
А на улицу лился праздничный вкусный запах.
Есть в Никином дворе местечко под названием «Угол». Никакой это на самом деле не угол, а такая ниша в стене — архитектурный каприз. Из «каприза» и кустиков, посаженных вдоль стены, получился тайник: ты видишь оттуда Никин подъезд и все четыре подворотни, а тебя не видит никто.
Тут я и сидел на брошенной кем-то досочке. Родителям моим в Никин двор заглядывать не к чему: мама, как пришла, сразу, конечно, увидала мою записку. И успокоилась. Может быть, прилегла даже чуточку отдохнуть… "Наверное, и хорошо, что взял и не остался ждать маму, — думалось мне. — А то бы ей не отдыхать, а мне не сидеть бы в засаде".
Не сидеть здесь я не мог. Я держал под присмотром главный, уличный, вход. Ведь здесь сегодня под аркой из серого гранита появится Катерина.
Она не являлась. Шли и шли с цветами, с коробками девчонки из нашего класса, девчонки из параллельного. Мальчишек вообще как будто не звали. Интересно, что они делают там одни?.. Никина комнатушка выходила как раз в «каприз». И, подтащив мусорный бак, я шагнул с него на выступ стены…
Ника завязывала перед зеркалом кушачок и чему-то смеялась. Остальных видно не было.
Эта Ника — смешная, похожая на щенка — была для меня совсем особым человеком, как никто: ведь с ней шепталась обычно ее двоюродная сестра Катерина…
Вдруг кто-то больно схватил меня за лодыжку. Геркин голос рыкнул:
— Что? Шпионить?
— Чего ты? — спрыгивая, изумился я.
— А ничего! — он приблизил ко мне красное от злости лицо. — В лоб получишь, вот что!
— Да? А если я сам тебе врежу?
Драться с ним не хотелось. И, глядя на его выставленную челюсть, я только подумал про себя: "Неужели ему нравится Ника? Ну и дела!" И ушел от него, презрительно сплюнув.
Разве мог я тогда подумать, что вижу моего Герку в последний раз?
"Как на Никины именины испекли мы каравай…" — я услышал это нестройное пение и сразу понял, что пришествие Катерины было мною бездарно пропущено. Никина двоюродная сестра жила с их бабушкой, и с тетушками, и с детьми тетушек не у нас, а на Мытнинской улице. И похоже, что пока я ждал, когда Герка уберется со двора, они все прошли. Из окон доносился теперь хохот, поцелуи и общий гвалт. Катеринин голос, правда, не пробивался. Но Катерина и не станет орать. Стоит небось в сторонке со своей полуулыбкой и спокойно ждет, пока обратятся к ней…
Я подобрался ближе, выставил ухо:
— Спасибо, спасибо! Ой, какое спасибо! — щебетала Ника. — Погодите, а где же Катюшка?
Гвалт сразу пропал, будто его выключили. Осталось лишь покашливание Никиной (и Катерининой) бабушки. Оно было такое, будто бабушка хотела сказать: "Ах, лучше вы меня не спрашивайте!.."
— А ты еще не знаешь? — ворвался голосок одной из сестриц. — Очередное Катькино сумасбродство. Представь только…
Но бабушка перебила решительным баском:
— Катю не ждите. Тебе, Никуша, от нее поцелуи. Она на денек-другой в Москву отъехала…
Так я остался без дома, без Герки и без Катерины.
Записки моя мама писала ласковые и так же ласково отвечала по телефону: "Сынок! Ты где? Иди домой, а?.. Иди…" Боясь это услышать, я выпаливал скороговоркой: "Это я. Я жив!" — и скорее вешал трубку…
В вечер Никиного дня рождения я поступил именно так. (Между прочим, один из автоматов в Щербаковом переулке вот уже скоро два года соединяет безо всякой "двушки"…) Такой мой звонок давал надежду, что инфаркта у мамы не будет. А домой идти не стоило… Я вдруг ясно увидел: если исключить слепой родительский инстинкт (а папа сам говорил, что он вреден), такой сын, как я, моим родителям вовсе не нужен. Все во мне их раздражает: "Сын! Ты не умеешь себя поставить. Как можно допускать, чтобы тебе кричали «шкет», или: "Господи, Валя! О чем только вы говорите с твоим Геркой?! Слышала и краснела — такие махровые глупости…"
Ну и что? А я, может быть, хочу говорить глупости!.. А вы — прирожденные отличники, воспитанные, образованные, наслаждайтесь своим великолепием сами, я больше не стану вам мешать. Стану жить один, не пропаду. Я что-нибудь такое придумаю…
Так или примерно так я размышлял всегда — при каждом побеге. Но проходили сутки или чуть больше — и мысли эти куда-то испарялись… Испарились и на этот раз. Потянуло домой. Захотелось услышать, как мама напевает, а папа хохочет и как они перебрасываются шуточками, — пусть бы даже и на мой счет… Захотелось, лежа в постели, прислушиваться к их вечерним теплым голосам…
Вот тут-то до меня наконец дошло, как ужасно то, что случилось… и как непоправимо…
В самом деле, магнитофон — маленький, как мамина театральная сумочка, с чистым, каким-то даже звенящим чистотой звуком, с любопытным круглым микрофоном-ухом, готовым все уловить, запомнить, повторить… То есть все это он готов был сделать прежде…
Володя привез его не на плече, а в чемодане, в самой глубине, бережно завернутым в свитер, потому что в нашем городе есть люди, которыми еще восхитится будущее человечество, и надо точно записать их неповторимые голоса…
Он и записывал. Но успел ли все, что хотел? Навряд ли. И уже одного этого мне просто нельзя было пережить… Я так и слышал мамин возглас: "Как можно после этого людям в глаза смотреть?" И правда, как?..
Кстати, как журналист наш гость хотел еще записать на пленку шумы нашего города, нашего Невского и особый ленинградский говор — в трамвае, в магазине, в метро… Все под рубрику: "Ленинградцы. Атомный век"… Вот тебе и ленинградцы — вместо магнитофона в футляре одни "дребезги"!..
Мама уже конечно просто сходит с ума…. И верно, ну с чем Володя вернется теперь на свою работу?.. Насчет починки мага что-то сомнительно… Можно, конечно, сгоряча в записке написать, что, мол, магнитофон мы починим. Какая там починка! Если бы мама слышала этот звон!..
Думать об этом было нестерпимо. Тем более немыслимо — возвратиться домой. Из окна лестницы, что напротив, видна была часть нашей кухни. Зажигались огни, мама ходила взад-вперед, прикладывалась лицом к стеклу. И тогда я приседал, хоть и знал, что разглядеть меня нельзя… Дом, огни, мамина голова — все это медленно кружилось, ведь спал я мало и почти не ел.
Володя-гость уехал. Отправился без магнитофона? Или родители купили ему новый на деньги, что отложены на мамины сапоги?.. А если этот особый репортерский маг дала Володе его студия, а в магазинах таких не бывает совсем?
Голова кружилась все сильнее. Шел уже четвертый вечер моего бездомного жилья. Но когда в одиннадцатом часу мама вышла меня искать, я знал, что не найдусь никогда, ни за что…
"Тук-тук-тук" — стучали мамины каблучки в пустых дворах. Мама, похоже, собралась уже спать: волосы распущены, пальто накинуто прямо на рубашку. Полоска ночной рубашки в зеленую крапинку выглядывала при каждом мамином шаге. Мама, видно, собиралась, но не смогла заставить себя лечь. Папа всегда доказывал ей, что, мол, искать парня глупо, ничего с таким большим лбом не случится, а захочет есть — придет сам… Папа был, конечно, прав…
Мама шла, придерживая пальто у ворота, и всматривалась в тусклые окна лестниц. Однажды — это было давно — она разглядела так мою прижавшуюся в уголке тень. Поэтому я кинулся на свой надежный чердак и через минуту уже смотрел на маму с крыши.
Мама бродила внизу — я следовал за ней поверху. Я смотрел вниз и размышлял, что, может быть, родители не удержались бы и высказали бы мне все, что они обо мне думают, но вообще-то они хотят все забыть и простить. Вот только я-то сам… Если, например, мама осталась на зиму без сапожек… Или если Володю уволят за то, что он загубил казенный маг… Какое я тогда имею право возвратиться и жить себе дома хорошей жизнью?
Мама шла и звала тихонько: "Валёк… Валёк…"
Внезапно в проулок вывернулся какой-то пьяный. Он шарахался от стены к стене, угрожающе бормоча. А мама вот-вот должна была выйти в тот же проулок… Я с ужасом понял, что спуститься уже не успею, кинулся на чердак, где свалена была куча реек, а когда вернулся с "метательным оружием" в обеих руках, мама и пьяный уже встретились. Он надвигался, растопыривая огромные лапы.
— Ах ты, птичка-синичка!
Но мама была уже не одна; рядом с ней стояла вездесущая и добрая тетя Нина. И грозила пьяному: давай, мол, потише!
— А ты, тетка, не встревай! Я ведь что? Только на синичку полюбоваться…
И прошел мимо. Моего вмешательства не потребовалось… Просто удивительно, до чего вовремя умела появляться тетя Нина! Взяла маму под руку и заворковала:
— Надежда Андреевна, не страдайте, найдется ваш Валет. Валет — это у него прозвище. Знаете?
В общем, мама была теперь в надежных руках.
Но вместе с облегчением я ощутил и какую-то пустоту… Действительно, раз меня искали, вниз я спуститься не мог. А здесь делать было уже решительно нечего. Разве глянуть на базу? Благо, она тут — подать рукой. Я обогнул трубу. И остановился в удивлении: на базе работали! И вечером это выглядело очень эффектно: тело грифа, будто вогнутое зеркало, собирало в длинный лучик звездный свет… Мерцающий звездный зайчик тронул кончик моей кеды, пополз выше, упал на лицо… Я зажмурился. А когда глаза открылись, лучик уже уполз.
В первый момент я не заметил ничего. Гудело в голове. Слегка чесались веки. Ветер как будто потеплел, но ведь и пора бы: последний день мая! Внезапно внутри шевельнулась тревога: дома стали ниже! Явно ниже! Я, вглядываясь, двинулся по кровле. Дома будто присели. Незнакомо и глухо лежали подо мной съежившиеся дворы. В мозгу вспыхнуло: "Да наши ли это места?" И погасло: две женские фигурки все так же брели внизу. Тетя Нина продолжала разговор:
— Зря вы мучаетесь. Ведь не в первый раз. Пора привыкнуть.
Так она утешала. Отраженное каменными стенами, до меня долетало каждое слово… Тетя Нина, конечно, знала, как утешать. Но ее речь сопровождали теперь странные звуки — шаркающие, трудные… неужели это могут быть шаги моей мамы? Моей-то мамы, которая всегда просто летала?
Я замер.
— Знаете, Нина, я должна вам сказать, что когда на улице ночь, а твой ребенок неизвестно где, к этому привыкнуть нельзя.
Мама отвечала спокойно. Но какой это был усталый голос! Что должно было случиться с моей веселой мамой, чтобы она стала вдруг так говорить? Мне сделалось страшно. Думалось лишь: "Хорошо хоть, что с ней добрая тетя Нина!"
— А я хочу сказать, что ребенок-то подрастет и с него все как рукой снимет, а вот вы пока проглядите нечто весьма важное…
Тетя Нина произнесла это неожиданно громко, а в тоне ее прорезалось что-то колкое. Не то она предупреждала, не то угрожала. Это добрая-то душа? Я сам себе помотал головой: "Не может того быть…"
Мама откликнулась слишком ровным голосом:
— Вы на что-то намекаете?
— Да что вы? Просто ваш Антон Валентинович — блестящий ученый, умница, начальник большого отдела. И если кто-то на него заглядывается, тут, согласитесь, удивляться нечему…
Ее речь опять звучала мягко. И слушать такие похвалы своему папе было бы очень приятно, если б не чувствовалось в этом чего-то недосказанного. Вот так прошлой весной мы плыли с папой на лодке по гладкой реке, а под гладью скрывался, оказывается, острый риф…
— Нина, — перебила мама, — зачем вы это говорите?
Тетя Нина намекала на что-то страшное и обидное, и касалось это нас троих: папы, мамы и меня.
— Хочу вас, Надюша, по-дружески предупредить: вам пора уделить вашему мужу самое пристальное внимание, не то…
Что "не то"? О чем она нас предупреждает? О том, что на папу обращают внимание, или о том, что он сам?.. Намекает, что наш папа может захотеть жениться на ком-нибудь другом, как папа малыша Нильса со второго двора? "Врет! — подумал я. — Врет!"
Конечно, она врала. И в голосе сквозь воркование явно проступало злорадство, она будто потихоньку шипела, как змея… Даже в том, что она назвала вдруг маму не по отчеству, а просто «Надюша», и то почему-то ощущалось злорадство…
— Послушайте, Надюша! Никто, как я, не желает вам добра. Ваш Антон Валентинович всегда на виду…
Она шипела. И тут я внезапно подумал, что ведь это — не наша тетя Нина, ведь наша — добрая, хорошая — так бы просто не могла.
А еще мне подумалось, что моя веселая гордая мама никогда не стала бы слушать такие гадости.
Маленькая фигурка, так похожая на мою маму, двигалась, влекомая чужой Ниной Александровной, не делая попытки освободиться. Только шаги ее шаркали жалобно, будто просили: "Не говорите. Не предупреждайте меня. Не надо…" Но тетя Нина не унималась:
— Так вот, милая Надя, я должна вам в некотором роде открыть глаза…
Я будто увидел, как хищно она усмехнулась, а мама вся сжалась. Этого я допустить не мог.
— Мамуль, я здесь! Сейчас к тебе спущусь! — я крикнул, хотя внутри уже шевельнулась догадка, что это вовсе не моя мама…
Да, это был
Странная вещь — параллельные измерения. К другим Моториным еще до того, как я к ним переместился, тоже приезжал Володя-гость. Он забыл у них на вешалке в передней рыжую куртку, точь-в-точь такую, какую носил и наш. Я узнал эту куртку сразу. А вот с магнитофоном получилось сложнее: то ли в этом чужом измерении Володя мага вообще не привозил, то ли все-таки привозил, но благоразумненький здешний Валя его не тронул, только жуткая история с магнитофоном здесь не случилась… Я же этого сперва не знал и с ужасом ждал, что родители вот-вот начнут ее со мной выяснять… Я заклинал их мысленно: "Пусть бы только не теперь, пусть чуть попозже…" И родители будто слушались — молчали… На третий день, истомившись ожиданием, я вдруг сам стал напрашиваться на эту ужасную тему:
— Мамуль! А Володя… он что… хороший журналист или нет?
— Надеюсь, что неплохой. Он вдумчивый юноша, — ответила мама, не поднимая глаз.
Эта ее уклончивость просто убивала. Будто мама намекала: мол, гнусность твоего поступка так велика, что ее все равно не выразить никакими словами. Так оно и было. Тем более мне не оставалось ничего, как только заставить маму об этом заговорить. Пусть говорит и выльет наконец все, что она об этом думает!..
— Мамуль! — бросил вызов я. — А он… Володя… уехал от нас… довольный?
После такого вопроса не мог не последовать взрыв: "Довольный?! Да что ты, просто в полном восторге! В полнейшем! Ведь ему всего лишь вконец испортили его орудие труда, лишили возможности делать дело, ради которого он приехал. Всего лишь!"
— Довольный? — рассеянно бормотнула мама. — Наверное…
Вот тогда, уже догадываясь об истине и все же пугаясь своей наглости, я выпалил:
— А репортерские маги, в сущности, ударопрочные, хоть кидай с девятого этажа…
И услышал в ответ равнодушное:
— Да?.. Ты бы чем-то занялся, Валёк. Почитал бы.
 |
"Мышеловка — это устройство, в которое попадаешь невзначай, а выбраться бывает сложно" — такими словами я открыл свой дневник, а точнее: "Записки В. Моторина, сделанные во время его необычайного путешествия в другое измерение". Люди, которые путешествовали всего лишь в своем измерении, и те привозили тома записок. Но кроме первой фразы о мышеловке, я ничего пока придумать не смог.
Уже почти две недели я торчал в чужом мире в полном одиночестве, и это как раз тогда, когда начались долгожданные летние каникулы! А ведь мы собирались летом в Дагестан, в аул Сагратль через синие горы.
Вьется, вьется над пропастью тропа, по тропе голове в хвост идут три ишака, на ишаках папа, Герка и я. А тропка все уже и уже, а пропасть все глубже и глубже, и камешки из-под скользящих копыт падают глуше и глуше.
Сагратль — самый высокогорный аул. Облака и орлы парят ниже аула, в прежние времена по ним стреляли из нагана — сверху вниз. Так мужчины аула тренировались в меткости… Теперь все уже поняли, что орлов жалко. Мы будем их только наблюдать. А Герка будет наблюдать еще и звезды: в горах наблюдать звезды всего удобнее. Потому-то папа и обещал, что возьмет с собой не одного меня, а и Герку. Мама тоже приедет к нам, но чуть позже. У папы в Сагратле старинный друг его отца.
Только когда все это будет? И будет ли вообще?.. В этом
Вообще
И Катерина в
Катерина, как всегда, плыла, чуть касаясь мостовой босоножками. И люди, и лужи, и машины расступались перед ней, как всегда. Но все же это была другая Катерина, И потому рядом, ковыляя на толстых подошвах, как страус на ходулях, и выставив свои джинсы, будто флаг, отсвечивал Коля-студент… Ну, нет, наша Катерина не пошла бы с таким и по одной стороне улицы!
И если до этого я еще чуть-чуть сомневался, у себя я или же нет, то тут уверился до конца: люди здесь другие и мир другой…
До чего же мне было тоскливо! Голубоватый лучик, который перенес меня сюда и мог бы тем же порядком вернуть обратно, до моих крыш упорно не доползал. Надо было что-то придумать. Но что?
Самое простое — связаться с теми, кто работает на базе. Если, конечно, Герка был прав и это в самом деле научная база… Ведь должен же там кто-то быть!
Правду сказать, в первые дни я надеялся, что в моем мире меня хватились и что, может быть, кто-то на базе даже видел, как я попал в луч и исчез. Ведь для них-то я исчез?.. И поднялась тревога, шум, суетня. И организовали работы по моему спасению…
Но теперь уже было ясно, что ничего такого нет. Возможно, на базе и не подозревают о коварных свойствах лучика, а может быть, напротив, знают очень хорошо, оттого и испытывают в глухом дворе ночью…
Мне во всех случаях оставалось одно: сообщить на базу, что приключилось, и попросить, чтобы скорее вернули меня назад. Ничего нет проще. Если бы, конечно, удалось понять, где на эту чертову базу входят… Странное дело, я ясно видел базу сверху. Но нигде не мог найти туда вход. Оставалось подкараулить кого-то из людей с базы, когда они будут туда проходить.
Наши дворы отделены от остального мира двумя улицами и двумя переулками. Я только и делал, что обходил дозором этот четырехугольник. Задачка не из легких: сто подворотен и двести сорок семь парадных! Уходит десять минут, пока их разок обежишь… А сколько народу вытекает и втекает в наши дома за один только день! Кто из них с базы? Попробуй угадай!
Правда, оказалось: база работает не весь день, а минут всего по десять — в три часа дня и в одиннадцать ночи. Но перед этими часами во все парадные и дворы входили люди, вкатывались машины, а один раз прискакал даже всадник на коричневой, блестящей лошади. После выяснилось — это цирковой наездник примчался в гости к своей тетушке из девятой мансарды.
Впрочем, я и сам сразу понял, что ученые с базы не прискачут на лошадях. Машины приезжали тоже по своим делам забрать мусор, доставить кому-то шкаф… Пешеходы по большей части все тут у нас и жили…
В общем, людей с базы я пока не обнаружил. Но открыл случайно другие дворовые тайны. Узнал, например, что взрослые парни, те, что отнимали у нас с Геркой маг, в этом измерении все хотят жениться на продавщице из магазина «Вина-воды». Но продавщица Шура и не думает за них выходить, смеется только: "Да на что вы мне сдалися, такая пьянь?"
А Коля-студент, тот что за трешку дает ребятам переписать диск (то есть хорошую пластинку), захаживал, оказывается, к нашей Нике. Я как увидел — просто поразился: студент, а ходит к такой малявке! Он шел с холщовым мешочком, где всегда носил диски, и сворачивал не к себе и даже не к Вите, а в Никин подъезд… То есть и Коля, и Ника были здесь, конечно,
Я бегал вокруг дворов, как спутник, запущенный на постоянную орбиту. Но узнать про всех, кто куда спешит, все равно не мог. Если б здесь был со мной мой настоящий Герка!.. Вдвоем мы нашли бы кого угодно. Но однажды я и сам натолкнулся на очень странного типа…
— Скажите, который теперь час?
Я спросил это быстро, задыхаясь от бега, а тип вздрогнул в ответ.
— Без пяти… — буркнул, а сам тревожно глянул и, будто невзначай изменив направление, начал подниматься по лестнице вверх.
"Вот оно! — возликовал я. — Наконец-то нашел одного!" В самом деле, только что этот человек бежал и влетел в парадную на таких скоростях, что я чуть было от него не отстал. Он явно собирался проскочить через запасной ход в скверик. Но, заслышав меня, стал не спеша подниматься вверх… Кто это мог быть, как не человек с базы? Кто бы еще стал скрывать куда идет? Скрываться должны люди с базы, чтобы сохранить тайну…"
Силуэт его вырисовывался на фоне лестничного окна: юркий и в то же время расхлябанный. Эта странная смесь удивила меня еще утром — он шел тогда по двору. Через час я заметил его снова, он крался к подворотне, где жили близнецы…
"Юркий" поднялся на первую площадку и, завернув, пошел дальше, так что я уже не видел его, но слышал, как его ноги перебирают ступеньки, как шуршит его плащ, а дыхание учащается по мере подъема. Всего здесь шесть этажей. Он приостановился, кажется, не доходя четвертого. "Кто живет на четвертом? — быстро прикинул я. — Саша. Нильсов дед… А что, если Юркий просто идет в гости? Только зачем бы тогда он бродил здесь с утра?"
Юркий вздохнул, двинулся опять. Заглянув снизу в пролет, я различил его движущуюся тень. И вдруг все исчезло: тень, шуршание, шаги. Он притаился! Действительно, в квартиры он не заходил — а то бы я услышал. И стоит там, и не дышит. Но только зря: ему теперь деться некуда…
Подпрыгнув от радости, я затопал к нему, говоря на ходу:
— Я нарочно нашел вас, товарищ! Здравствуйте! Я знаю, вы с испытательной базы. У меня к вам важное личное дело…
Мой голос странно звучал в лестничных извивах. Вверху рождалось эхо. Ответа не было.
— Вы слышите? Да не беспокойтесь, про базу я знаю давно, а никому не сказал и не скажу: тайна есть тайна! Только, пожалуйста, я очень прошу… так нужна ваша помощь…
Он не отвечал. Может быть, еще не совсем доверял мне?
— Я буду нем как рыба. Только не бросайте меня, помогите вернуться отсюда…
С этими словами я взлетел на четвертый этаж, взбежал на пятый, взобрался на шестой, запрыгнул на чердачную площадку. Что такое? Никого! Юркого нигде не было.
И куда он мог подеваться?.. Нет, в самом деле? Я подергал запертую чердачную дверь, заглянул в шахту сломанного лифта… И начал простукивать стены, чтобы понять, где тут потайной ход. Ход, конечно, был. Но стен тут много, а из дверей квартир повысовывались раздраженные жильцы…
Тогда, чуть не плача с досады, я уселся на подоконник.
"Какое чудовищное невезение! Или у них потайные ходы на всех лестницах?" Я долго сидел на подоконнике не глядя никуда. Затем поглядел вниз. Там в скверике на куче песка сидела девчушка лет шести и, уцепившись ручонкой за низкий борт песочницы, отталкивала худую женщину, наверное, свою маму. А та тянула девочку к себе. Казалось, я вижу их лица: у матери — перекошенное от бессилия, у дочки — упрямое, с прикушенной толстой губой… Ничего необычного в этой сцене не было: как мамы загоняют ребятишек домой, видишь в наших дворах каждый день. И однако все во мне насторожилось: обе они что-то мне напомнили…
Наконец мать сдалась: выпустила дочкины пальцы. И вдруг заломила над головой очень худые руки. Заломила так странно, что неловко стало смотреть…
Вот тут я понял, что ведь это и есть Лидия. Та самая Лидия, отчества которой я пока не знал, но о которой просил вспомнить
Эту черную худую женщину Лидию и девчушку Лизу я видел на Московском вокзале. И было это в самый последний день, который я провел в моем измерении, ровно за час до того, как встретил наконец Катерину…
В то утро я встречал поезд. Точнее, вот уже второй день я встречал все скорые поезда, что приходили из Москвы. Ехать не скорым Катерина просто не согласилась бы.
Странно подумать, какая бездна народа прибывает к нам из Москвы каждое утро. Поезда идут один за другим. И выбрасывают на платформы толпы народа. Встречающие суетятся, заранее отыскивают, где остановится нужный вагон. А я номера вагона не знал. Не знал ни вагона, ни поезда, ни даже числа. И занял пост в начале платформы, где останавливаются тепловозы. Люди шли мимо меня и шли, несли сумки, чемоданы, баульчики. Зачем они ездили? Зачем во время своих экзаменов умчалась в Москву Катерина?.. Но зачем бы ни умчалась, сегодня приедет: завтра у нее экзамен — химия, я узнал это точно.
Катерина приедет, сойдет с подножки вагона. Не спрыгнет, как, например, Ника, а сойдет, как описано это у Грина: "Так спускаются по лестнице роскошного дома к почтительно распахнутой двери…"
Я представлял себе, будто Катерина уже идет вдали — плывет, создавая в любой толчее неприкасаемую зону. Сейчас она выплывет следом за тележкой, груженной коробками… Но тележка проезжала за тележкой…
Катерина приехала в первом вагоне того поезда, что прибывал после девяти, когда наш шестой «а» начал уже, конечно, рабочий день на весенней школьной практике. Во мне что-то вздрогнуло за секунду до того, как Катеринин силуэт показался в дверях вагона. Она двигалась так, как умела лишь она одна, да еще Биче Сениэль из "Бегущей по волнам" Грина. Катерина, как и Биче, одарена особым даром подчинять себе вещи, обстоятельства, людей. Когда я прочитал «Бегущую» — понял сразу: Грин списал свою Биче с Катерины… Как это могло выйти — не знаю, ведь когда жил Грин, Катерины еще на свете не было. Может быть, Грин встречал ее прабабушку, а она на прабабушку похожа? А может, существует много разных параллельных миров и Грин попал в один из них, а там Катерина уже была?.. Ну а как еще объяснить, почему героиня Александра Грина так похожа на Никину сестру Катерину?
Катерина ступила на перрон. Мои ноги одеревенели. Одеревенели и не шли, а Катерина плыла мимо. Видела она меня или нет?.. Неподалеку она приостановилась. Толпа, разделившись, обтекла ее по сторонам, а она спокойно оправляла свою босоножку. Может быть, все-таки видела? Ждала, что подойду? Но мои ноги не двигались. И она ушла.
Я еще попал в тот день в школу и вскопал полклумбы в нашем школьном саду. И пока копал, говорил себе: "Ведь это и хорошо, ведь я так и хотел, чтобы Катерина меня не заметила. А то что бы я ей сказал?"
Я ни разу в жизни не сказал еще Катерине ни словечка. Не уверен даже, слышала ли она мой голос. Да и знает ли она вообще, что я есть?..
С практики нас вскоре отпустили. Светло-серые дождевые капли падали в темно-серую Фонтанку, и я шел, размышляя, как хорошо знать, что Катерина тут, в Ленинграде. Можно зайти в телефонную будку, набрать номер и слушать, как она говорит: "Алло! Алло! Перезвоните, я вас не слышу!"
Но Катерина произнесла только короткое: "Да?" Прозвучало оно, будто выкрик: "Ну, кто там еще пристает?" Где-то рядом с ней слышались голоса и смех: у Катерины были гости…
И что такого, что она пригласила гостей? Лучше всего было просто повесить трубку. "Будете говорить? — резко спросила она. — Ну, как хотите!" И запели-заиграли короткие злые гудочки: «пи-пи-пи»… Говорят, предложение жениться должен делать обязательно мужчина. И если ему ответят: "Не хочу!" — то он все равно должен предложить еще раз.
Во многих книгах намекают, что так бывает даже обязательно. Но если надо так, то я не женюсь никогда…
Я шел под дождем, а эти мысли смешивались с другими не более веселыми. Ведь я жил тогда в лестничном кресле и где-то валялся злополучный Володин магнитофон…
Вот почему я и думать забыл о еще одной вокзальной встрече.
Это произошло, когда я высматривал Катерину в толпе: я вдруг увидел папу. Папа нес в каждой руке по объемистому чемодану, а рядом, приотставая, семенила очень худая женщина. Длинная, в чем-то длинном и красном, она подпрыгивала на высоких гейшах, цепляясь за папину руку, и вся напоминала спешащий красный карандаш… Женщина была мне абсолютно незнакома.
"Кто она?" — подумалось мне. Чтобы папа вот так, один кого-то встречал, — это выглядело странно. Тем более дома гостей как будто не ждали… Впрочем, как давно я не был дома!..
Я пригнулся и юркнул в зал ожидания, чтобы пересидеть минуток пять: за пять минут они отойдут далеко, а через шесть минут прибудет как раз следующий поезд.
С этими мыслями я плюхнулся на деревянную скамью. Но они вошли следом. Хорошо еще, что скамейки тут были с высокими, будто ширмы, спинками. Я притаился за одной из них.
— Ну зачем мы сюда пришли? — Если бы я не видел папину спутницу раньше, то теперь по одному голосу все равно бы понял, как она странно худа. Так худа, что словам негде в ней поместиться и они вырываются с каким-то нервным присвистом.
— Пойдем… Пойдем!.. Я прошу… Я мечтаю добраться хоть до какого-то дома…
Папа прервал мягко:
— Лидия! Сядь. Давайте пять минут отдохнем.
Она, видимо, послушалась: лавка скрипнула. А папа сказал:
— Вот так… Давай теперь знакомиться. Меня зовут Антон Валентинович. А ты, кажется, Лиза? Сколько тебе теперь лет?
Я удивленно выглянул из-за скамьи — тут была, оказывается, еще и девчонка. Маленькая, черная как вороненок, она, насупясь, стояла в сторонке возле брошенных чемоданов. Папиных слов она будто и не слыхала — смотрела прямо перед собой.
— Седьмой год, — ответила за нее Лидия.
Девчонка не шевельнулась, будто речь не о ней. Странная была девчонка — неподвижная, с неподвижными, совсем грустными глазами. Я не услышал от нее ни звука. Впрочем, я и вообще почти ничего больше не услышал: в пустой зал ворвалась компания с двумя гитарами, транзистором и такими глотками, что заглушили бы и атомный взрыв.
Папа и женщина еще что-то говорили, наклоняясь друг к другу, напрягая голоса. Кажется, спорили. Он — терпеливо, она — бурно, со множеством странных резких жестов. Я даже подумал, что девчушка Лиза потому, наверное, такая угрюмая, что ей всегда неловко за мать…
Внезапно Лидия вскочила и, подняв свои чемоданы, покачиваясь под их тяжестью, сделала несколько упрямых шажков к выходу. Папа вырвал у нее груз.
— В конце концов решать тебе, — донесся до меня его голос в случайной паузе общего гомона. — К Нине Александровне, так к Нине Александровне. Изволь.
На том они удалились…
В любое другое время я бы, уж конечно, постарался выяснить, что это за женщина и что за девчонка. Но я встречал Катерину. А вечером того же дня угодил в другое измерение, и встреча на вокзале затерялась в памяти.
Теперь я глядел из окна, как наперекор материнским приказам девчушка Лиза усаживается в песочнице поплотнее, и во мне росла догадка, что обе они играют в моем переселении в другое измерение какую-то роль. Может быть, даже могут помочь возвратиться. Иначе зачем бы другому Вале о них вспоминать?
Я распахнул раму и лег на подоконник животом.
Лидия, знакомо заломив руки, что-то кричала, а девчонка положила подбородок на согнутые коленки, и вся ее фигурка выражала такое упорство, что я даже посочувствовал ее беспомощной маме. Но тут все переменилось: Лидия внезапно умолкла, прикрыла лицо руками и почти упала на садовую скамью; тогда Лиза взметнулась из своей песочницы, обхватила мать и, бормоча и плача, стала отдирать от глаз материнские ладони.
Я отвернулся: смотреть на это было неловко. А когда глянул опять, мать с дочерью, умиротворенные и зареванные, шли в обнимку к подъезду. Раз! — и они скрылись за дверью. Это была та самая парадная, где жила Нина Александровна — папина сослуживица.
Я слонялся по скверу, заглядывал в окна. Как раз в этот день пришло лето, жара струилась от камней, а дом как вымер: те, кому не надо было на работу, предпочли отправиться куда-нибудь на пляж. Надо сказать, другая мама тоже рвалась отправить меня в лагерь или на дачу к знакомым, но я объявил, что все равно отовсюду убегу… Ну не мог же я торчать на какой-то там даче, когда надо добиваться возвращения в свой мир!
Окна на светлом от солнца фасаде темнели будто провалы. Многие были распахнуты, плескались на ветру пестрые занавески. Набрав горсть мелких с горошину камешков, я стал тихонько забрасывать их за растворенную тети Нинину раму: один камешек, второй… пятый… Ага! Из темноты показалось возмущенное лицо Лидии, и худая кисть захлопнула створку. Створка стукнула, будто бросила мне: "Хулиган!" Зато теперь стало ясно, что Лидия с дочкой в самом деле живут у другой тети Нины.
Но мне повезло еще больше: в сквере неизвестно откуда появилась тетя Инга — Никина мама. Она торопливо размахивала одной рукой, в другой был большой желтый портфель. Вот это да! То был портфель моего папы!
Не успел я ахнуть, как тетя Инга скрылась в тети Нинином подъезде, через минуту серые, как у Ники глаза, глянули на меня сквозь стекло захлопнувшегося недавно окошка, а еще через несколько минут тетя Инга уже протопала мимо в обратном направлении, кивнув мне мимоходом:
— Что, Валентин? Скучаем?
Я пошел за ней. Она почти бежала в сторону института, где работали и она, и Нина Александровна, и мой папа. Теперь тетя Инга размахивала обеими руками — папиного портфеля при ней не было.
Итак, все нити к интересующей меня Лидии тянулись почему-то с папиной работы… Я потоптался на углу у автоматов с газированной водой и отправился туда же.
Институт физики, где папа работал, выглядел в обоих измерениях совсем одинаково. Папин заместитель Позен сидел за огромным столом, напротив поместились тетя Инга и дядя Олег, а между ними лежал чертеж, и они будто бодались над ним головами.
— Тебе папу, Валентин? — сразу обернулась ко мне тетя Инга.
Папа был мне вовсе не нужен, наоборот, мне казалось, что без него мое расследование по поводу Лидии пройдет куда легче. Но я уже знал, что дверь папиного кабинета все равно заперта, и потому смело кивнул.
— Олег, не знаешь, где у нас Валентинович? — Но тут тетя Инга, видимо, что-то припомнила и, разом покраснев, пробурчала: — Ах, да… да… да…
Она поглядела на дядю Олега так, будто просила, чтобы он ее выручил. Но он лишь моргнул и сказал:
— Да-а-а-а… Э-э-э-э…
Все стало ясно: папа был сейчас в таком месте, про которое рассказывать нельзя: в очень секретном… Между тем тетя Инга оправилась от смущения:
— Папа ушел. Погуляй тут, а потом пойдем обедать.
— А куда ушел? — Я спросил просто по инерции.
— Куда-куда… Уехал в банк выбивать нам премию.
Вот уже это-то была неправда, за премией бы он не поехал ни за что — это дело бухгалтерии. Просто тетя Инга заговаривала мне зубы. Она работала с моим папой так давно, что познакомилась со мной сразу, как только я родился, и все-таки не поняла еще, что я — человек проницательный!
"Что же они скрывают? — соображал я. — Может быть, папа работает с той аппаратурой, от которой у него в прошлом году был ожог?"
Отогнав легкое беспокойство, я вышел в коридор. Думал потолкаться по этажам, позаглядывать в разные комнаты, и тогда, может быть, слушок о странной Лидии найдет меня сам собой. Был, конечно, и другой путь: расспросить тетю Нину (Лидия-то жила у нее!). Но что-то говорило мне, что вопросов на эту тему лучше не задавать.
Однако Нина Александровна догнала меня сама и, подцепив под локоть, спросила тихо:
— Тебе очень нужен папа?.. Валечка! Папа занят одним очень ответственным делом, но уже заканчивает и вот-вот должен быть…
Я знал, что это другая тетя Нина и голос у нее не добрый, а просто вкрадчивый, но был заинтересован поддержать разговор: а вдруг она в чем-то проговорится? И потому поинтересовался.
— А что это за дело, теть Нина?
— Рассказать я не имею права. Но только оно ответственное. Чрезвычайно. И в общем… в общем папе будет приятно, если после такого дела его встретит родной сын.
На слове «такого» она сделала ударение. А тон был таков, что сделалось не по себе… Я как-то почти забыл, что это не мой папа. И мысли о Лидии мгновенно отошли на задний план.
— Тетя Нина! Вы хотите сказать, что это опасно?
— Ну-ну! Сейчас, я надеюсь, все уже позади. Но, знаешь, ты подожди в отцовском кабинете. Только у нас такое не принято. Так что ни-ни! Ти-хо-нько!.. И запрись изнутри.
Быстро затолкнув меня в кабинет, она сунула мне отцовский ключ.
— Олег, ты не видел Валюху?
— Моторина-младшего, что ли? Только тогда. С тех пор — нет.
— Противный парень, ну куда пропал?
— Да ушел. И правильно сделал. Чего ему в такой день здесь париться?
— А обед? — Тетя Инга почти рассердилась.
— Да на что ему твой обед?
Они протопали по коридору прочь, следом за ними — все другие: начался обеденный перерыв. А я остался сидеть за папиным столом, по-папиному подперев щеку. Вообще-то папа не очень любил, чтобы я торчал в его институте: мол, забежал, если что-то надо, и иди домой, не мешай. В его кабинете я бывал лишь мельком, а один не оставался, конечно, ни разу. Здесь хранились приборы, какие-то реактивы и никому, даже сотрудникам, ходить сюда без хозяина было нельзя, я знал это точно.
Вот почему поведение тети Нины все больше и больше казалось мне странным. Странно уже и то, что у нее почему-то был папин ключ.
Впрочем, в другом измерении и порядки могли быть совсем иные… Примирившись на такой мысли, я стал думать, как это будет занятно папино изумленное лицо, когда он сюда войдет. Когда папа удивляется, кончик носа поднимается у него вверх, будто у веселого щененка… А глаза у папы прищурятся: "Ба, сир! — забасит он. — Мое научное место уже, значит, занято?" За ход папиного "ответственного дела" я почему-то больше не волновался. Ведь сказано же, что все позади. Зато передо мной был папин письменный стол, которым стоило заинтересоваться.
Стол был такой громадный, что тут могли бы играть в настольный теннис сразу две пары. На нем валялись кучи бумаг, книг, чертежей и какая-то штуковина под стеклом с прыгающей стрелкой.
Я поднес руку к штуковине — стрелка метнулась вправо, будто хотела выпрыгнуть наружу. Я отвел руку — стрелка вернулась назад, встала было посередке, где нуль, но передумала и скакнула до упора влево. Я чихнул — и она бросилась к нулю. Это было до того занятно, что я забрался в кресло с ногами и стал потихоньку дышать на стрелку через стекло. От дыхания она будто оторопела и остановилась, мелко подрагивая. А я сказал ей.
— О, великий Джин! Ты, кто заключен в этом странном сосуде! Чего ты хочешь, скажи? Хочешь, чтобы тебя освободили?
На самом деле я, конечно, вовсе не думал, что там сидит джин, а знал, что это папин прибор. Но стрелка перестала дрожать и замерла, будто задумалась над вопросом.
— Скажи! — шепнул я. — Если надо, я сумею разбить волшебное стекло, за которым ты заточен. Только не воображай, что мне нужна награда. Просто я против, чтобы кого-то заточали…
Я знал, что никто не ответит, потому что никакого джина нет. И все же на минутку представилось папино лицо, когда он увидит свой прибор с разбитым стеклом, — зрелище не очень приятное… А стрелка замоталась влево-вправо, влево-вправо, будто замотала головой: мол, нет, нет, нет… не разбивай!.. И почему-то именно в этот миг я внезапно отчетливо понял, что штуковина-прибор, и бумаги на папином столе, и тети Ингин чертеж — все-все это относится к антиматерии, все тут изучают не что-нибудь, а антиматерию… Как я это уловил — не знаю сам. Может быть, до меня с опозданием дошло, что всегда во всех институтских коридорах только и слышится «антимезон», «антинейтрино», «антикварк». А ведь это — частицы антивещества. Папа говорил, что их найдено уже очень много… И как я не догадался уже тогда, что, наверное, сам папа их и находит? И когда он обжегся в прошлом году — это, видно, было от античастиц, ведь антиматерия очень опасна…
— Знаешь что, Джин, — сказал я, — сиди уж действительно там.
И ко мне возвратились все прежние опасения. С беспокойством припоминалось, что тетя Нина сказала уходя, уже из-за двери:
— Ни в коем случае ты сам отсюда не выходи. Если что-то произойдет, приду за тобой я…
Что она имела в виду? Значит, папе еще что-то угрожает?
Папы все не было. Подойдя к двери, я выглянул осторожно в замочную скважину: коридор был пуст. Мне думалось: "А если что-то и вправду случилось? Случилось, но тетя Нина вгорячах про меня забыла, а остальные ведь просто не знают, где меня искать…" И в этот момент раздались странные звуки, будто позванивали маленькие колокольчики, — в коридоре совсем рядом с дверью висел телефон, и он звонил, но совсем по-особому… Может, это звонят о папе?.. Я высунулся, схватил трубку. Там произнесли;
— Тубинститут слушает.
Это было непонятно: тубинститут, где лечит больных мама, не имеет к папиному физическому институту никакого отношения. И почему это "тубинститут слушает"? Это мы здесь его слушаем, а он, наоборот, нас зачем-то вызывает… Я собрался было задать законный вопрос: "Алло! А кого вам надо?" Но услышал поскрипывающий голос тети Нины:
— Здравствуйте! Прошу вас как можно скорее сообщить вашему врачу Моториной…
Меня будто ударили в грудь, в голове пронеслось: "Случилось самое страшное и тетя Нина об этом звонит…" Трубка чуть не выпала из рук. А тетя Нина продолжала четко и громко:
— …сообщите ей, что ее сын Валя попал в уличное происшествие и в настоящее время находится в тридцать шестой поликлинике в рентгеновском кабинете.
Я бежал, бежал и думал только о том, чтобы скорее добежать. — Тетенька, простите. Очень нужно. Дайте, пожалуйста, две копейки. Спасибо.
В будку телефона-автомата я ворвался как шквал:
— Алло! Надежду Андреевну! Как ушла? Может быть, еще не совсем ушла, может, еще на лестнице? Ой, крикните, пожалуйста, это ее сын… Алло! Мамуль! Это я, Валя.
— Господи, Валенька, Валюшенька! Что с тобой? Что случилось? — Мама не то всхлипнула, не то икнула. — Где ты?
— На Невском. У кино «Октябрь», — безмятежно объявил я.
— Как у кино? Тебя отпустили? Ты один? Что-нибудь сломано? Как рентген?
— Какой рентген? Ты что, мамуль?.. Я хотел спросить, можно мне в кино? Хорошая картина…
— А как же?.. Погоди! Ты был в поликлинике?
— Какая поликлиника? Мамуль, я же спрашиваю, можно мне в кино? Ты поскорей, а то сеанс начинается,
— Господи! Милый мой, дорогой мой мальчик! Конечно, можно… — По-моему, мама плакала.
Дело в том, что телефон, висящий возле папиного кабинета, подключен параллельно к другому телефону — белому, блестящему, всегда стоящему в рабочем зале отдела у Позена на столе. Вот пo нему-то, когда все ушли на обед, звонила в мамин институт
Я прыжком выбрался из будки автомата. Я ликовал, приплясывал, напевал. Будь толпа на Невском чуть пореже, я сплясал бы танец дикарей. Потому что, пусть это касалось мамы другого Вальки, я чувствовал, что просто не пережил бы, если бы у нее сделался инфаркт.
Да, сколько я ни говорил себе, что здешние родители — чужие, но до конца осознать этого не мог. То есть, конечно, мои папа с мамой — совсем-совсем иное… Но и за этих я тревожился и волновался. Я тревожился за них даже больше, ведь они — эти
Со стороны Нины Александровны было неумно врать, что я в тридцать шестой поликлинике, ведь тридцать шестая — вовсе не детская, никто бы меня туда не послал… А вот зачем ей понадобилось такое вранье, это я еще намеревался выяснить.
И выяснил. Возле рентгеновского кабинета в кресле для ожидающих сидел папа. "А может, я не понял и тетя Нина говорила не обо мне, а о папе?" — это было первое, что пришло мне в ум. Но папа был непохож на пострадавшего. Он развернул газету и поглядывал то в нее, то на белую дверь. Дверь пискнула, растворилась и оттуда показалась Лидия.
Я замер. И, встав за колонну, наблюдал оттуда, как он подхватил бледную Лидию, как накинул на нее теплый плащ и почти понес к выходу. "Так вот на что намекала маме другая тетя Нина. И вот почему этот другой папа приходит домой поздно" — так мне думалось. Я уже хорошо знал, чем это может кончиться; в прошлом году такое случилось с отцом малыша Нильса: его отец Дмитрий Иваныч начал ходить к чужой женщине. И тогда он сразу стал задерживаться допоздна, вот так же как теперь
У меня даже заныл затылок. "Но это еще будет не сейчас, сейчас мама ничего еще, к счастью, не знает. А после пусть беспокоится другой Валя. Меня здесь после не будет" — так я пробовал себя утешать, хотя и знал, что эти верные по существу рассуждения не утешают почему-то ничуть…
Я все стоял возле дурацкого рентгеновского кабинета, приложившись к колонне пылающей щекой. Потом щеки стали остывать, а я сообразил, что ведь Лидия пришла сюда не так просто: она заболела. Ну а если один человек провожает другого, больного, то в этом не может быть ничего плохого.
Раздумывая так, я вышел на бульвар и, шагая вдоль скамеек, наткнулся на вытянутые ноги.
— Ах, простите! — Я обернулся.
Ноги принадлежали папе. А на его плече лежала Лидия с опущенными почерневшими веками.
Нет, то что она лежала на его плече, не означало еще ничего. Может быть, ей, больной, надо просто отдохнуть по дороге… Но вот сам-то папа… Сперва он будто не узнал меня, отвел глаза. Потом сообразил, что притворяется уж слишком явно, и обернулся ко мне, а сам покраснел. Я и не предполагал, что он может краснеть.
— Ах, это ты? Ты… Поди сюда, — с запинкой сказал он, а сам стал скорее придумывать, что бы такое мне соврать. Было просто видно, как он придумывает… Не вообразил ли он, что я стану слушать всякое вранье?
— Иди же сюда!
— А мне неинтересно. Не-ин-терес-но! — отчеканил я.
И ушел.
Мамина подруга Нина Александровна хотела, оказывается, чтоб мама увидела папу и Лидию вместе, для этого все и подстроила. Вот как понимали в этом чужом мире дружбу!
Хотелось затопать ногами и заорать на всю Вселенную: "Спасите! Не могу я больше оставаться в этом измерении!" Вот бы набрать побольше кирпичей и начать швырять их сверху в эту гнусную базу. Может быть, тогда бы они задумались о том, что наделали? Только я ведь и прежде пытался уже закидывать в эту каменную щель обломки кирпича, но они растворялись в воздухе, не достигнув цели…
Оставалось продолжать поиски, присматривая одновременно за тетей Ниной, чтобы она не осуществила все-таки свой «дружеский» план. Мама не должна узнать про Лидию. Ну зачем ей знать? Ведь ничего особого пока что нет, ничего рокового не случилось, и, значит, все еще может исправиться…
Да и во всех случаях, чем позже мама начнет болеть, как мама Нильса, тем, конечно, лучше.
Я размышлял, что бы придумать такое, чтобы раз и навсегда отучить Нину Александровну лезть в наши семейные дела. И меня осенило. Я как пуля понесся снова в папин институт. Позен, тетя Инга и дядя Олег опять сидели над чертежами. Тетя Нина, стоя за спиной Позена, зыркнула на меня довольным взглядом: представляла небось, как сейчас чувствует себя мама в тридцать шестой поликлинике…
— Теть Нин! — громко и наивно сказал я. — Зачем вы передали маме, что будто со мной плохо, и меня отправили на рентген, и чтобы мама бежала туда же?
Вот это был эффект! Тетя Инга, дядя Олег, Позен — все разом вскочили. И закричали в три голоса:
— Как так?.. Откуда ты это взял?.. Что с мамой?..
На это я и рассчитывал. Недаром же они скрывали, где отец. Знали, конечно, и про поликлинику, и про Лидию, но ни в коем случае не хотели, чтоб про это узнала не только мама, но даже и я.
Нина Александровна покрылась красными пятнами, но пропела с натуральным изумлением:
— О чем ты, Валечка? Какой рентген?
Никого это не обмануло. Коллеги глядели на нее все пристальнее. А я продолжил:
— Ну что вы, тетя Нина? Вы же сами закрыли меня на это время в папином кабинете… Вот, кстати, возьмите назад.
И я протянул ей у всех на виду давешний папин ключ.
 |
В одиннадцатом часу вечера было еще светло. Я как всегда направлялся к своей крыше, когда под аркой Никиных ворот лицом к лицу столкнулся с девчушкой Лизой. То есть это только так говорится; лицом к лицу, на самом деле ее лицо было на уровне моего ремня, так что она уткнулась в пряжку, но как будто не ушиблась.
Девчушка сразу отскочила и хотела бежать. Ей и надо бы было бежать, потому что таким маленьким детям в этот час давно пора спать. Но я, сообразив, что вот представляется случай узнать о Лидии побольше, схватил девочку за ручонку.
— Куда бежишь? — я спросил приветливо, но она руку выдернула.
— К маме. А что?
— Ничего. Просто хочу сказать тебе: здравствуй, Лиза!
Я думал, она удивится, что я ее знаю. Но она улыбнулась:
— Здравствуй, Валя!
Я даже подпрыгнул:
— А ты меня откуда знаешь?
— А кто бросал к нам камешки в окошко?
Улыбалась Лиза странно: глаза светились смехом, но по потрескавшимся губам сразу видно было: улыбаться они не привыкли.
И тогда я спросил вдруг:
— Твоя мама очень… нервная, да?
Из глаз улыбка сразу исчезла, а губы, наоборот, расплылись еще больше, они расплывались и расплывались, будто самим им улыбаться хотелось, а их хозяйке — вовсе нет… Мне показалось, что Лиза сейчас заревет, но она только сглотнула:
— Больная…
Тогда я спросил деловым тоном, как спрашивают, например, "где ложка?".
— Чем больная?
Деловой вопрос требовал делового ответа. Она и ответила, старательно выговаривая каждый слог:
— Изо-тер-по-ко-ко-ньей. Такая производственная болезнь. От экс-пе-римента, знаешь?
Ничего такого я не знал. Но мне казалось, что пора переменить тему, а потому я кивнул и снова взял девчушку за руку:
— Пошли, я тебя провожу.
— Что ты? Я сама! — Однако теперь она не вырывалась, а, наоборот, прижалась к моему боку. Наверное, все-таки побаивалась ходить по чужим дворам.
— Мама послала меня к тете Инге за солью. А тети Инги дома нет, одна Ника… А ко мне вчера черный кот в форточку приходил… А у меня дома две куклы с настоящими волосами…
Она болтала от радости, что не страшно идти и что нашелся хоть кто-то, с кем можно поболтать. Ведь она тут никого еще не знала.
— А моя мама потому такая нервная, что у меня невыносимый характер…
Вот это да! У этой малышки было вроде как у меня?
— Это тебе мама так говорит? — поинтересовался я, уже отпуская ее возле парадной.
— Все говорят! — и она помахала мне, как машут маленькие дети.
Меня все подмывало спросить, часто ли бывает у них дядя Антон Валентинович. Но это было бы как-то нечестно.
А зря я надеялся на Лидию. Ну как она может помочь возвратиться?.. И другой Валя говорил о ней не потому, а просто намекал, что папа пропадает из дому не из-за чего-нибудь, а из-за Лидии… Так что, если хотеть вернуться в свой мир, надо снова и снова искать связи с испытательной базой.
Придя наконец к такому выводу, я обежал вокруг дворов раз так пятнадцать подряд, после чего пришлось отдыхать, привалившись к старой тумбе.
И тут из парадной, где жила Нина Александровна, показалась странная процессия. Сцепившиеся люди выдвигались наружу осторожно и медленно. Так высовывается из раковины улитка. Я привстал и сразу присел опять: то были папа и тетя Инга, они вели под руки ослабевшую Лидию. "А как же Лиза?" — подумалось мне. Лиза вышла, озабоченная какими-то двумя сетками, которые она несла осторожно-осторожно. В одной из них видна была темная бутыль — наверное, лекарство Лидии. Подъехала машина — не скорая помощь, не такси, а какой-то микроавтобус. Подкатил совсем бесшумно; папа и шофер молча подсадили Лидию, Лизу с ее сетками, тетю Ингу, впрыгнули сами. И все это выглядело так, будто среди белого дня происходит похищение. Никто ничего не заметил. Лишь когда щелкнули автобусные дверцы, в Никином окне, том, что выходит в проулок, как будто шевельнулась портьера…
Тогда я расчесал пятерней чуб и отправился на разведку к Нике.
В Никиной парадной внизу топтался Нильс — шестилетний малыш из четвертой квартиры. Тот самый, у которого ушел папа… Родители назвали этого мальчишку в честь Нильса Бора, великого физика. Думали, наверное, что от этого сын будет умнее…
Когда я вошел, Нильс отпрыгнул от лифта что-то уж очень быстро. Но затем вернулся и даже услужливо надавил кнопку. Это меня удивило: мальчишка услужливостью не страдал. Я бросил ему:
— Привет, лифтер!
— Я тебе не лифтер, — огрызнулся он, следя за подъезжающей кабиной. И вдруг объявил торжественно: — Прибытие! Прошу на выход!
А я-то, балда, вообразил, что Нильс вызывает лифт для меня! Как бы не так! Он распахнул железную дверь, и оттуда вылез недовольный и «укаченный» кот Эдик. Ну да, конечно, мне уже рассказывали раньше, что этот Нильс загоняет бедного кота в лифт, а сам бегает и вызывает его с этажа на этаж.
— Ты что это, фашист, животное мучаешь?
От моего крика кот попятился и попытался «сесть» в лифт снова. Сам же Нильс моим возмущением пренебрег. Возразил с достоинством:
— И ничего не мучаю. А приучаю к перегрузкам, чтобы при старте космического корабля…
Ну что с ним было разговаривать?.. Я плюнул и позвонил в Никин звонок.
Открыл Никин сосед дядя Глеб:
— Здорово-здорово! Проходи, парень, не тушуйся!
Подбодрил он меня, оказывается, совсем не зря: от того, что я увидел, вполне можно было стушеваться.
Нет, в самом деле, я заходил сюда в последний раз месяца так два назад за задачником по алгебре. Все тогда было нормально: Ника стояла возле шкафа на голове, потом перекувырнулась и дружески треснула меня учебником по затылку… В Никиной комнате, отделенной от родительской занавеской, все тетрадки, книжки, карандаши были тогда разложены аккуратно по полкам. Даже доска с незаконченным Никиным рисунком и та была ровненько приставлена к стене…
Сейчас Ника лежала на диване спиной к портьере, заменяющей дверь, и читала книгу, приставленную к диванной подушке. А в ее ногах, в головах, под боком, на соседнем столике, за диванным валиком и просто на полу лежали и стояли разные другие книги, будто она читала целую библиотеку сразу.
— Кто там? — нехотя спросила Ника, не поворачивая даже свою нечесаную голову.
— Это я, Валя. К тебе можно?
— Угу.
Она читала, лежа спиной ко мне, и, видимо, не имела намерения поворачиваться. Казалось, она лежит так не день и не два… На стуле рядом стояли грязные тарелки с недоеденным супом, под стулом валялся недоеденный кусок хлеба… "Вот это да! Такого безобразия не встретишь ни у одного мальчишки!" — так я подумал. А вслух спросил:
— Интересная книжка?
— Угу.
— А про что?
Поняв, что от меня не отделаться, Ника нехотя шевельнулась и еще более неохотно перевернулась на спину:
— Что ты сказал?
— Про что твоя книжка?
Несмотря на жару, Ника покрыта была теплым красным халатом. Похоже было, что она покрылась им несколько дней назад, когда еще было холодно. И с тех пор все ленилась его сбросить. Часть этого огромного халата свисала до полу и лежала там в пыли. Но когда Ника переворачивалась, халат немного поддернулся и книги, что лежали на нем грудой, попадали вниз… Она на них только покосилась и ответила мне:
— Да так… Про все…
Теперь Ника лежала на спине и так же, как прежде в книгу, настойчиво глядела в потолок. Любой, кто знал раньше эту верткую Нику, решил бы, что ее опоили, околдовали, подменили. Он понесся бы к ближайшему телефону и вызвал бы скорую помощь и милицию… А я закрыл глаза, посчитал в уме до десяти и понял, что ничего не случилось — просто передо мною была
Я бродил по пыльной Никиной комнатушке и наткнулся на старый проигрыватель. Он стоял на облезлой табуретке как-то боком, но вот удивительно — возле него прямо на полу лежали диски. И какие!.. Я опустился рядом. "Король Артур", все записи Битлсов! Такого великолепия не было, я думаю, даже у Вити.
— Откуда у тебя "Король Артур"?
Ника все так же лежала на спине, но тут обернулась:
— Эти? А… это… одного человека. Слушай, Валь, засунь их подальше. Вот хоть бы под шкаф, а?
— Может, лучше в шкаф? Все-таки…
Она нетерпеливо дернула плечом. И я сунул диски на полку на какие-то девчоночьи тряпки… Конечно, подмывало спросить, что это за "один человек", который разбрасывает где попало такие вещи. Но Нике вряд ли захотелось бы отвечать…
Отодвинув занавеску, я оказался на родительской половине комнаты и начал рассматривать старинный письменный прибор на столе. Никому теперь не нужные пустые чернильницы красовались на мраморном постаменте, окруженные резной бронзовой оградой с воротиками. Я подвигал воротики туда-сюда, провел пальцем по бронзовым кружевам.
— Валет! Я все хотела тебя спросить, — донесся из-за портьеры какой-то вдруг охрипший Никин голос. — В тот раз, ну когда Катя приехала из Москвы… скажи, она была одна или с Колей?
— Когда?.. Где?.. Как? — лепетнул я в ответ.
Я не мог произнести ничего внятного. Не потому, что Ника, оказывается, неравнодушна к этому индюку Коле-студенту. И не потому даже, что Катерина, оказывается, все-таки видела, что я ее встречал, и рассказывала, и, может быть, даже смеялась… А потому, что на тети Ингином столе рядом с красивым письменным прибором лежал на подставке календарь и в нем против сегодняшнего числа на месте "для памяти" тонким почерком сделана была надпись: "Утро. Лидия Федотовна. База"…
Итак, Лидия, то есть Лидия Федотовна, все-таки имела отношение к испытательной базе, а значит, и к нашему с другим Валей перемещению. Тетя Инга, выходит, тоже была связана с базой. А если так, значит, связан и папа! И сегодня, согласно записи в календаре, все они отправились на базу!
Это вспыхнуло в мозгу, и я застонал от досады: ну что бы мне было вместо разговора с Нильсом, да и с Никой, сразу побежать на базу за ними следом?.. Впрочем, стоп! Получается какая-то чушь: как можно проехать на базу на автобусе, пусть даже это будет микроавтобус? Не вырастают же у автобуса крылья…
Через две минуты я уже стоял на крыше. Кровля возле моей третьей трубы вся была в комьях глины, нанесенных моими кедами за много вечеров. А внизу на базе не происходило ничего. То есть что-то, возможно, там и совершалось: кто мог видеть, что творится под этими куполками? Но гриф наружу не вылезал, и никакого микроавтобуса тоже не было. Разве что он прижался к самой-самой стене дома, на крыше которого я стоял: узкая кромка у самой стены с моего места не просматривалась…
Я стоял и спрашивал себя: неужели может быть такое, чтобы тетя Инга и даже папа каждый день ходили на базу и делали что-то таинственное под самым моим носом, а я и не заметил?
Быстро спустившись, я добежал до первого телефона, набрал номер Ники. Раздались глухие длинные гудки: один, другой… Никого, кроме Ники, у них там в квартире сейчас не было: дядя Глеб при мне ушел. А Ника подходить ленилась. Я насчитал шестнадцать гудков — значит, телефон, что стоит на полочке в Никиной передней, прозвонил шестнадцать раз. Ника не подходила. Я набрал номер снова. Потом еще. Когда гудков насчитывалось шесть раз по шестнадцать, в трубке щелкнуло и сонный Никин голос сказал:
— Алло.
— Ник, это я — Валет.
— Да.
— Ник, ты меня извини. По-моему, Катерина была тогда на вокзале одна… А, еще… ты не знаешь, где та опытная база, на которую ходит твоя мама?
На том конце провода молчали, видимо, Ника «переваривала» первую часть моего сообщения.
— Ника! Алло! Ника!
— Конечно, знаю! — объявила Ника неожиданно звонким, веселым прежним своим голосом. — Только она не ходит, а ездит. Куда-то под Одессу.
В этом другом измерении и мороженое было совсем иное… Я лизал крем-брюле, пахнущее кислым, и мне так хотелось обратно в мой мир, что я готов был выть, выть, выть…
Другая мама вручила мне поутру два рубля, чтобы я съездил хотя бы за город, а не торчал целый день в душных дворах. Но дела не отпускали меня далеко, а кафе-мороженое было тут рядом.
Я ковырял ложечкой холодный шарик и думал о том, как Никино сообщение про одесскую базу снова запутало то, что я начал было распутывать… Неужели они все: тетя Инга, папа, Лидия взяли и вот так без предупреждения отправились в крошке автобусе под далекую Одессу?
В кафе было пусто. Может быть, оттого, что оно в подвале — шесть ступенек вниз. Но скорее оттого, что его только недавно открыли, а вывеску еще не повесили. Я сидел за столиком прямо против окна, светящегося под сводчатым потолком ярким, льющимся снаружи светом. Окно было похоже на щель, какая получилась бы, если бы зацёпить дом за крышу каким-нибудь великанским крюком-краном и чуть-чуть приподнять его над асфальтом… А за этой щелью-окном шли, стояли, бежали, переминались и пятились большие и маленькие, толстые и тонкие, мужские и женские — самые разные ноги. Просто парад ног! Я зевнул и попытался от скуки отгадывать, куда они все идут. Вон те в красных босоножках на тонюсеньких ремешках спешат, наверное, в театр. Эти — в полукедах — на теннисный корт. А вот мужские, солидные, на толстой моднючей подошве, может быть, вышагивают на базу?..
Я взволновался и пристально следил, как они двигаются вдоль моего длинного окошка. Не дойдя до конца, приостановились — их хозяин искал, видно, у кого бы прикурить… Так и есть — идущие навстречу сандалеты задержались рядом. Затем ботинки и сандалеты стали расходиться, сандалеты двумя решительными бросками скрылись из поля зрения. Я вскочил: такие вот желтые сандалеты и бежевые брюки в крупный рубчик могли принадлежать только моему отцу.
Папы не было ни в переулке, ни во дворах, ни дома — нигде. И все-таки это мог быть только папа: такие сандалеты и брюки мама привезла ему откуда-то еще зимой и гордилась: до чего подошли в тон! Сандалеты с брюками пронеслись как раз в сторону наших домов. Но с другой стороны, как мог здесь оказаться папа, который ведь отбыл утром в Одессу? Или все же не отбыл?
Оставалось затаиться в «капризе» под Никиным окном и терпеливо ждать. Если он вправду уехал, то, конечно, не появится совсем. Если все же он появится из ворот, что ведут от автобусной остановки, — это значит, что хотя он никуда не уехал, но не был сейчас и на базе. Зато если он войдет в Никин двор из-под низкой арочки, что ведет изнутри нашего лабиринта, значит… Значит, база, на которой бывают тетя Инга и папа, вовсе не под Одессой, а именно здесь!
Растянувшись на молодой траве, я стал следить сквозь кусты за обоими входами. Сперва вошел Витя. Он поступал в техникум и теперь, наверное, возвращался оттуда, подавленный трудностями и побледневший. Потом долго никого не было. А затем показался малыш Нильс. Он сжимал в кулачке длинную ярко-синюю ленту, а на другом ее конце выступал готовящийся в космонавты кот Эдик. Кто из них кого вел — было неясно. Нильс пытался присвоить руководство, но время от времени Эдик проявлял норов, и тогда, чтобы избежать конфликта, Нильс поворачивал свои потрепанные сандалии и бежал за котом… Они поравнялись с кустами, за которыми я скрывался, и дружно пустились ко мне. "Странно, как это они меня открыли? — подумалось. — Ну, у Эдика, предположим, нюх. А у Нильса? И с каких это пор они так меня полюбили?" А Нильс уже уселся на корточки возле моей головы и заверещал:
— Здрасте!.. Эдик проходит бег в поводке, это важно в условиях иных планет… Витька в техникум провалил, потому что большой, а балда, от него все кошки убегают… Ника Вознесенская рисовать теперь разучилась, — голосок у него был насмешливый (и вообще, этот
— Стой! — у меня даже занемело внутри. — На какой базе?
И именно в этот миг я увидел папу. Папа пожимал руку старушке Татьяне Тарасовне. Пожал и пошел вместе с ней в ее подъезд. Появился он изнутри или с улицы? Вот за этим — самым главным — я и не уследил…
Теперь мне оставался только один Нильс. То есть с нашим глупеньким шестилеткой Нильсом я и говорить бы не стал. Но этот… Он таинственно повел глазами и шепнул:
— У нас во дворах, вот совсем где-то тут спрятана настоящая научная база. Честное слово!
И, насладившись произведенным впечатлением, продолжил важно:
— А знаешь, что на ней делают? Животных к космосу приучают! Как я — Эдика. Только у них — все дикие: медведи, тигры, инфузории…
— Кто-кто? — перебил я. — Инфузории? Ну ты даешь!..
Жаль, что он брякнул такую глупость! Не хотелось, чтобы правдивый, может быть, рассказ засорялся такой ерундой.
Он в ответ надулся:
— Инфузория — это микроба такая. Не хочешь слушать, так не надо.
Сразу, хитрец, почуял, что мне необходимо его послушать!
— Ну что ты, Нильсик? Я хочу.
— А тогда не дразнись… Без микробы в космосе тоже ведь нельзя… Всех зверей привозят к нам сюда и здесь тренируют.
Опять он понес ерунду, так что скучно стало разговаривать. Я возразил неохотно:
— Если привозят сюда, так почему мы их не видим?
— А вот в том-то и есть главный секрет. Зверей в какой-то тайный двор спускают. На вертолете. Спускают ночью, а навстречу шлют такой специальный лучик, тонюсенький-тонюсенький, бледный-пребледный… И на что лучик упадет, того становится не видно…
Вот тебе и малыш! Конечно, не то чтобы я всему поверил, тут еще надо разбираться и разбираться… Но что-то ценное здесь явно было.
— Скажи, Нильсик, а откуда ты это знаешь?
— Мне один человек рассказал. Он, когда надо, зверям лекарство носит. Вот он один раз на базу шел, а к нему пристал один, понимаешь? Любопытный такой балда, вроде нашего Витьки. Он идет, а любопытный — за ним. И пришлось ему тогда к моему деду зайти, чтобы, понимаешь, не показать любопытному дорогу…
Ну и дела! Ведь все было именно так: Юркий исчез у меня из-под носа как раз на той лестнице, где жил Нильсов дед!
— Да как он мог к нему зайти? Двери не отпирались, — этим утверждением я выдавал себя Нильсу, вполне он мог теперь догадаться, что любопытный балда вовсе не Витька, а я. Но он ничего не заметил, лишь буркнул:
— А дверь была отперта еще раньше. Я тогда развел костер у деда в пепельнице. А дед велел открыть окно и дверь, чтобы проветрилось.
"Как глупо я упустил тогда Юркого!" — подумал я.
— И твоему деду он тоже рассказал?..
— Ну что ты? Дедушка в комнате на диване лежал. А мы слушали в передней — я и Эдик.
Я посмотрел на Нильса и кота с чувством, похожим на зависть: ведь встретить человека с базы необходимо было не им, а мне.
— А знаешь, как Лизкину мать будут лечить? — донесся до меня Нильсов голосок. — А я знаю! На нее напустят этот тонюсенький луч, и она сделается невидимкой. А когда луч пропадет, она появится опять. А потом еще раз. И еще. И каждый раз она будет появляться не такая, как была, а чуть-чуть поздоровее. Потому что от тряски часть болезни из человека выпадает.
Опять я не понимал, где правда, а где выдумка. И спросил:
— От какой такой тряски?
— А ты попробуй стань невидимкой и появись. Тогда поймешь.
Он не мог, конечно, знать, что я давно это попробовал.
— Нильсик, а ты не видел, на чем увезли Лизину мать?
— Ее-то? На вертолете. У них вертолет-вездеход. Иногда он совсем похож на маленький автобус.
— И Лиза все знает?
— Что ты? Она ж разболтает. Ей перед взлетом шапку с ушами надевают на самые глаза…
— И там тетя Инга и мой папа?
— Тс-с-с! Это страшный секрет. Того, кто работает на базе, знать не должен никто!
Нильс произнес это свистящим шепотом, так что Эдик и я вздрогнули. Эдику, наверное, показалось, что где-то шипит враждебный кот. А меня поразили слова: "Знать не должен никто!" Не этим ли объясняется и то, что тетя Инга и дядя Олег скрывали, куда папа пошел, и то, что папа возвращается после полуночи, а мама не знает, где он ходил? Ведь раз «никто», значит, конечно, и не жена… Выходит, ни к какой Лидии папа не уйдет, и все хорошо, и зря старается
Да, со всех точек зрения похоже, что эта база — от папиного института. Тем более папин институт изучает антиматерию, а другие измерения вполне ведь могут быть из антиматерии… Однако если мир, куда я угодил, сделан из антивещества, то я должен бы был в первый же миг взорваться — аннигилировать, обратиться в нуль. Папа говорил: именно так и происходит, когда антивещество и вещество соприкасаются между собой. Ну а если так не случилось, то, может быть, лучик превратил в анти и меня?..
Я быстро ощупал свои кеды, провел по щекам, поглядел на ссадину у коленки. Неужели все это теперь антивещество? Недаром мне в последнее время подумывалось, что и сам я стал какой-то немного другой… Но если вещество во мне и переменилось, то все равно я не сделался абсолютно похож на своего двойника — другого Валю Моторина.
— А ты у меня, кажется, взрослеешь?
И Ида Савельевна — актриса с пятого этажа — тоже поглядывала на меня с любопытством. Догадаться об истине она, конечно, никак не могла и шептала маме:
— В нем просыпается нравственное чувство…
А нынче утром, я слышал, мама сказала папе:
— Он меня озадачивает!
По тому как она произнесла «он», я понял: говорят обо мне.
— Хи… А не ты ли утверждала, что он весь у тебя как на ладони?
— Когда это было-то?..
— С месяц назад.
— Возможно, — мама вздохнула. — Но за месяц он разительно изменился. Не к худшему. Но я не могу привыкнуть. И иногда мне чудится — его подменили…
— Что? Подменили? Ты сказала, подменили?
Припомнив эту папину фразу, я понял теперь задним числом, сколько в ней было тревоги и смутной догадки… Не означает ли это, что достаточно открыть всю правду другому папе? Ведь человек с базы — это как раз он и есть! Возьмет и поменяет меня на своего сына…
Все оказывалось удивительно просто. Я почувствовал себя так, будто нахожусь уже на обратном пути. Все во мне ликовало и пело так, что хотелось даже плакать.
И за всем этим я совсем позабыл про Нильса, а он все сидел на корточках и теперь был какой-то нахохленный. Еще бы! Ведь у него, такого крошки, то, чего я только опасался, случилось уже на самом деле: мама болела, а папы не было, считай, совсем. Хорошо бы забрать его с собой… Захотелось сказать ему на прощанье что-то ласковое. Вместо этого я почему-то ляпнул:
— У тебя локоть в глине!
— Ага. Я вымою. Или дед вечером вымоет.
— А мама где?
— На работе, а потом пойдет в поликлинику. Опять она кашляет.
Он сидел нахохленный и грустный, будто брошенный птенец. И вдруг спросил:
— Валь, а ты как думаешь, этим вот лучиком, что Лизкину мать, им ото всех болезней можно лечить?
Так вот почему Нильс знал о лучике так много! Мне захотелось вскочить, куда-нибудь бежать, нырять на морское дно, с кем-то сражаться и сделать вообще что угодно, лишь бы этому малышу стало повеселее.
— Подожди, — пообещал я. — Скоро я это выясню.
Нильс все, конечно, перепутал: лифт для космических тренировок не годится: перегрузки в нем совсем ведь небольшие. Поэтому кот Эдик оказался вовсе не подготовленным и струсил, когда попал не то что в космический корабль, а в обычную электричку. Впрочем, от природы Эдик был такой способный, что на третий раз освоился и мог уже смотреть в окно на бегущие мимо кусты… Мы с Нильсом и Эдиком ездили теперь каждый день купаться на взморье.
Когда Нильсов детсад уезжал весной на дачу, Нильс ухитрился как раз простудиться, и его не взяли. Нильсова мама все лето работала, а дед еле ковылял на костыле. Так что Нильсу и его коту был смысл ездить со мной на взморье. Мне же все равно нечем было теперь заниматься, кроме как ждать, чтобы другой папа вернулся из командировки.
И надо же, чтобы так не повезло! Когда я понял наконец, что на базе работает сам папа, я крутился возле него весь вечер, чтобы улучить минутку для разговора. Но мама все время была тут же рядом, а говорить при ней — значило бы нарушить тайну. В конце концов я решил подождать до утра, а утром проводить папу на работу. То была роковая ошибка. Ночью, когда я спал, зазвонил телефон, и ранний утренний самолет уже уносил папу в Петропавловск-на-Камчатке — туда, где срочно понадобилась кому-то его научная помощь.
Мы сидели с Нильсом на пляже и по очереди гладили Эдика, чтоб не побежал искать других котов и не потерялся бы в траве и соснах.
— А Коля-студент к Нике Вознесенской из нашего подъезда все-все свои песни отнес, — задумчиво сообщил Нильс.
Была его очередь гладить, а я лежал на спине, смотрел в небо и представлял, что я совсем не здесь, а в своем измерении. Я представлял себе, как подхожу к своей маме и, прижимаясь к ней, слушаю, как она смеется: "Ой, Валёк, да ты что? Ты ж так мать повалишь — огромный парень стал, медведь такой! Ах ты, миша-медведь, мой родной медвежонок! Где ты, мишенька, бегал? Где, мишенька, обедал?" Она смеется, трогает меня за чуб…
Тут я повернулся на живот и сказал себе, что если другой Валя, мой двойник, действительно человек выдержанный и хороший, то моим родителям живется теперь, может быть, даже веселее… Догадка, вполне логичная, жгла как огнем, хотя на самом деле я поверить в такое не мог. Я стал этот огонь еще в себе разжигать… Сейчас, когда возвращение было уже, по существу, довольно близко, в голову приходили разные странности… Я весь в них погрузился. Поэтому сообщение Нильса дошло до меня не сразу. А когда дошло, я спросил лениво:
— Какие еще песни?
— Ну, такие, что Витька с Сережкой любят. И Коля. И ты. Пластинки.
— Диски, что ли?
— Диски, — подумав, согласился Нильс, — А Герка, знаешь, эти диски у Ники увидел и хотел выбросить в помойку…
— Ну, балда этот Герка! — отозвался я.
А сам подумал, что вот моему настоящему Герке нравилась наша настоящая Ника и это точно, раз я сам чуть не получил из-за этого в лоб. А другому Герке нравилась, оказывается, другая Ника. Но если этой другой Нике нравится другой Коля-студент, то означает ли это, что мой единственный друг Герка в моем родном измерении тоже переживает невзаимную любовь? Я ото всей души понадеялся, что нет.
А Нильс продолжал вещать:
— Только Коля к Вознесенской больше совсем не ходит. Даже диски и те не идет забирать. То есть он как раз ходит, но не к ней, а к той, та тоже, понимаешь, Вознесенская, но только не Ника, а Катя…
— Откуда ты все это берешь? — оборвал я.
Он не сообщил мне ничего нового. Тем более Катерина проходила теперь какую-то практику в публичной библиотеке: один день — с девяти утра до пяти, другой — с двух дня до десяти. И каждый день, когда кончалась эта работа, Коля в своих джинсах поджидал ее у выхода… Я видел из-за ограды сада: кто-нибудь из выходящих придерживал тяжелую дверь, поток людей, покидающих библиотеку, приостанавливался сам собой и наружу выступала Катерина… Она была бы совсем как наша эта другая Катерина, если бы не кивала так нежно Коле-студенту.
 |
Если бы я не знал уже, что испытания на базе проводит именно папа, то теперь бы все равно догадался. Какое там стало без него запустение! Даже краска на стенах сразу будто обветшала. А воздух сделался пыльным, и куполки не отсвечивали на солнце. Я даже испугался, не заржавели бы там приборы: без них меня не возвратить никому… Вот почему я решился и подошел во дворе к тете Инге:
— Здравствуйте! Мне с вами надо поговорить.
Она ничуть не удивилась, только спросила:
— Сейчас? Ну пошли. — И двинулась было к своей парадной.
— Не-не, теть Инга, не к вам. Там у вас Ника… И вообще…
— А где ты предлагаешь?
Вот уж кто не изменился в этом другом мире! Она была веселая, и решительная, и насмешливая, точь-в-точь как наша. Я повел ее в скверик. Во дворах много укромных уголков, но скверик — единственное место, где все могли нас видеть, но слышать — никто!
— Теть Инг! — заявил я, когда она присела на лавочку. — Я все знаю! Только вы, конечно, нисколько не беспокойтесь! — И добавил торжественно: — Клянусь, что буду нем как могила!
Она смотрела на меня и выжидательно молчала. Тогда я подумал: "Ну ладно. Пусть она ни в чем не признается, пусть делает вид, что не понимает, о чем я говорю. Но сходить на базу и посмотреть, чтобы аппаратура не испортившись продержалась до папы, она должна!" И пробормотал вслух:
— Я хотел сказать, не пора ли вам, теть Инг, побывать на базе?
Она приподняла брови:
— Ах вот в чем дело! Ника говорила, что ты интересовался базой. Знаешь, что? Я, может быть, вырвусь в конце августа недельки на две и захвачу тебя и Нику. Идет?
Теперь уж вскинул брови я. И растерянно лепетнул:
— Простите, а я думал, на базу можно не всем…
— Совершенно справедливо. Только тем, у кого есть туристские путевки. Но путевки-то мы достанем. У нашего института под Одессой своя база отдыха.
О чем я говорил на самом деле, тетя Инга, конечно, поняла. Не то спросила бы небось, что такое особое мне известно и в чем, собственно, я клянусь… Просто тетя Инга такой уж железный человек! Если я буду когда-нибудь тоже изучать антимиры, то стану хранить тайну так же хитро и весело, как тетя Инга.
Но на испытательную базу тетя Инга так и не пошла, а если и пошла, то грифа не включала. Не ходили на базу и другие папины сотрудники: ни дядя Олег, ни даже сам Позен. Зато все они ездили к Лидии в больницу. Скорее всего, папа просто не успел вылечить Лидию до своего отъезда и ее временно поместили в обычную больницу Эрисмана.
"Кто она им всем, эта Лидия? Откуда они вообще ее знают?" — удивлялся я. Я часто думал о Лидии (раз она связана с базой!) и хотя знал теперь, что ее зовут Лидия Федотовна, но привык уже называть про себя только имя, а от этого она начала казаться не совсем взрослой, вроде Катерининой подружки Эли…
И в конце концов мне захотелось взглянуть, как она живет в своей больнице.
После того что вышло с папиным ключом, Нина Александровна меня не замечала. Губы ее складывались тонко, а ее голубые глаза отворачивались в сторону. Но на этот раз Нина Александровна не видела меня в самом деле: я уселся в трамвае на заднюю лавочку и вдруг обнаружил у себя под носом знакомые затылки — ее и заместителя директора папиного института Алексея Юрьевича… Подслушивать нехорошо, но разговоры у них были поначалу какие-то хозяйственные, так что и слушать было нечего.
— Вот я на рынок после работы забежала, взяла малосольных огурчиков — она любит… А вот свекольный сок свеженький. А то больничная еда, сами знаете… — Нина Александровна радостно показывала собеседнику баночки в своей сумке.
Тут я понял, что они, видно, тоже едут к Лидии.
Алексей Юрьевич поблескивал зеркальной лысиной:
— Ах, Нина Александровна, ну и гостинцы! Уж вы откройте мне, голубушка, секрет, как попасть к вам в друзья? С вами дружить — три срока на земле прожить…
Он был весь круглый, с круглой головой. Даже смех его был какой-то круглый.
— Напрасно смеетесь, Алексей Юрьевич. Хотите, я вашу печень в месяц вылечу?.. Вот, нате-ко…
Она порылась в сумке и протянула ему что-то в бутылке из-под молока… Он застеснялся, замахал руками, но она раскрыла его портфель и опустила туда подарок.
Я ехал и ехал, трясясь за их спинами. Трамвай звенел, катил по мостам, куда-то заворачивал. Они переговаривались теперь тише. Раза два я расслышал как будто папино имя. Вдруг тетя Нина сказала довольно громко:
— Прекрасный дружный коллектив, я счастлива, что в него влилась.
Такое заявление тетя Нина делала частенько. Это значило, что ей нравится работать в папином отделе. Но Алексей Юрьевич пожевал с сомнением губами:
— Прекрасный-то он, конечно, прекрасный, а вот Лидушу проморгали… Конечно, она все решила сама; сама, как говорится, большая. А все-таки кто-то должен же нести…
Он разволновался и бормотал невнятно, но я понял, что он хотел сказать. Он намекал, что за Лидией почему-то должны были следить, причем делать это надо было не кому-нибудь, а людям из папиного отдела, а раз «проморгали» — не уследили, то кто-то из них, может быть, даже папа должен теперь за это ответить.
Нина Александровна лишь вздохнула.
— Я, Алексей Юрьевич, в вашем институте тогда еще не работала. Но насколько мне известно, тогда как раз… то есть, если наука потребует…
Она высказывалась в этом роде долго, а я, конечно, стал изо всех сил прислушиваться, но считает ли она, что кто-то должен отвечать за Лидию, или не считает — понять из ее слов было невозможно.
— Вот-вот! Вы очень правы! — радостно перебил вдруг заместитель директора. — Ведь, по существу, не виноват никто. Все терзаются — такое несчастье! Но может же быть несчастье, в котором некого винить?!
Видимо, он понял собеседницу так, как ему хотелось понять.
А она, довольная, что узнала, чего именно ему хотелось, радостно поддакнула:
— Может! Лидия Федотовна сама, по собственной инициативе направила на себя луч. Ради науки. И обвинять тут кого-то просто глупо!
Теперь она высказывалась решительно и определенно — поразительно, до чего умеет подлаживаться!.. Но зато я узнал очень важное: Лидия работала когда-то в папином институте и побывала под лучом, как и я!..
Только вот можно ли заболеть от луча? Тут Нина Александровна что-то, наверное, путала: я же вот ничего — здоров… А саму-то Лидию, наоборот, этим лучом даже лечат… Или бывает так, что заболел от луча и лечение — все тем же лучом?
Между тем Нина Александровна вся так и подпрыгивала:
— Я уверена, с Лидией все будет хорошо. Надо лишь не жалеть труда… Вот, например, эти мои соки…
Она выразительно кивнула на свою поклажу. И это было не очень-то честно. Ведь на самом деле соки для Лидии готовила бабушка Сафронова из нашего седьмого двора — папина лаборатория ей что-то за это платила… Но заместитель директора наивно восхитился:
— Прекрасный вы человек!
Что за привычка болтать в трамвае? Пока трамвай шел, лязг хоть заглушал их голоса. Но на остановках…
— У нас всегда кто в отпуске, кто в командировке, у кого, понимаете ли, дети трудные, — сообщала тетя Нина. — Так что пришлось нынче поднапрячься и сделать фактически самой целую работу, знаете, по токалогии парамедии…
— Так это вы?.. Такое огромное дело?.. Еще бы, знаю. Работа отличная! — замдиректора в восторге закивал лысой головой.
Я же просто обалдел: это надо же так врать! Папа сто раз говорил маме, что делает эту самую токалогию тетя Инга… Нет, я не мог этого так оставить. И, тронув замдиректора за плечо, сказал:
— Вы только не вздумайте поверить! Работу сделали тетя Инга и немножко дядя Олег. Он ей помогал. Спросите кого хотите.
Если бы я всегда жил в этом другом мире, то, возможно, научился бы разоблачать таких вот, как другая тетя Нина… А так у меня вышло довольно глупо: Алексей Юрьевич отодвинулся почти испуганно, рявкнув:
— А вы… ты кто, собственно, будете?
Лицо и шея Нины Александровны пошли красными пятнами, а сама она вскочила и собралась было крикнуть визгливо: "Ах ты хулиган, нахал!.." — но только глянула злобно, а произнесла вдруг мягко-мягко:
— Успокойся, Валечка, успокойся. Ну конечно, тетя Инга и дядя Олег. Ты только успокойся…
Ну и хитра она была! Говорила так, что все сразу подумали: "О! Да это, оказывается, псих! Он не отвечает, наверное, за свои поступки, а она уговаривает, потому что знает — он псих!"
Алексей Юрьевич тоже клюнул на этот маневр и уставился на меня с опасливым выражением… А я… Ну что я мог сказать? Что бы я ни сказал теперь, что бы ни сделал — все подумают: это потому, что он — псих…
Но промолчать я все-таки не мог.
— Я совсем спокоен, Алексей Юрьевич. Просто сказал, чтобы вы знали настоящую правду. И зря вы верите, будто я какой-то дефективный…
А Нина Александровна тем временем сделала заместителю директора знак: видите, мол, какой тяжелый случай? Не стоит его возбуждать и нервировать… И произнесла вслух:
— Ну конечно, Валечка, настоящую правду. Ты только успокойся… Успокойся…
Если бы она до меня тогда дотронулась, я бы, наверное, просто в нее плюнул. Слишком уж чувствовал свое бессилие… Но она предусмотрительно держалась подальше и даже спрятала руки на коленях. Выглядело это престранно: человек произносит ласковые слова, а сам явно сторонится и сидит как столб…
Алексей Юрьевич, заключив из этого, что я псих не простой, а опасный, начал потихоньку отклоняться от меня подальше. Тогда я хмыкнул от нервности и бросил ему:
— Я вас не укушу.
Получилось как будто подтверждение, что я в самом деле могу кусаться.
Алексей Юрьевич вскочил. И женщина, что сидела со мной рядом, вскочила тоже. На нас оглядывались. Вдруг тонкие губы Нины Александровны затрепетали от радости. "Придумала еще какую-нибудь гадость!" — догадался я. И правда. Она потянулась к уху замдиректора:
— А вы его узнаёте?.. Это ведь сын Моторина, Нашего. Да-да. Бедный мальчик!..
На этот раз удар ее метил в папу: вряд ли папе будет приятно, если дирекция станет думать, что сын у него — опасный идиотик… И это было еще не все: она сделала значительное лицо и добавила громким шепотом:
— …А тут еще всем известные моторинские неурядицы… Семейные…
Интересно, что она имела в виду? И надеялась небось, что спутник станет расспрашивать… Но он даже не слушал. Не желая больше находиться возле такого опасного — меня, он быстро сгреб свой портфель и бормотнул:
— Нам выходить… Идемте… идемте же!
Выходить им было не нужно: до больницы оставалось еще остановки три. Нине Александровне пришлось, однако, за ним последовать. Но прежде чем уйти окончательно, она усмехнулась и произнесла громко, чтобы я услышал:
— Знаете, а ведь Лидия Федотовна — первая любовь нашего уважаемого шефа Антона Валентиновича… И в общем, эта любовь не угасла. Да-а-а!..
Бабушка Сафронова жила почти что в подвале: нижняя часть комнаты — до окна — была фактически под землей, а окно висело прямо над газоном. Мама говорила, что это называется "цокольный этаж" и что прежде так жили многие. Сейчас в наших дворах так жила только одна бабушка Сафронова, да и то потому, что не соглашалась никуда переезжать: у нее были тут дорогие воспоминания. Говорят, прежде у нее был муж и дети. А сейчас — одни только воспоминания. И никто не ходил к ней, кроме почтальонши тети Симы, что приносит пенсию, да соседок по дому, для которых бабушка латала простыни и выжимала соки… Летом бабушка подставляла к своему окну изнутри белую табуретку, тогда табуретка становилась как бы ступенькой, а окошко — дверью. Бабушка Сафронова садилась снаружи перед «дверью» на другую табуретку и шила. Она была сухонькая и почти глухая.
Теперь у бабушки Сафроновой жила Лиза.
Каждое утро, направляясь на взморье, мы с Нильсом и Эдиком встречали Лизу у молочного магазина.
— Здравствуй, Лиза! — говорил я.
— Здрасти! — Деловито помахивая бидоном для молока, она проходила мимо,
— Воображает, — комментировал Нильс.
А Эдик делал за девчушкой шаг-другой: ему бы познакомиться да попробовать молочка. Но он был кот совестливый и не мог нарушить компанию.
Когда я вечером проходил мимо бабушкиного окна, Лиза на меня не смотрела. Но она, конечно, вовсе не воображала, а просто побаивалась других девчушек с нашего двора: Динки, Нинки и Иринки — могли ведь поднять на смех: "жених и невеста!". Впрочем, в женихи Лизе подходил не я, а Нильс.
В этот вечер Лиза сидела за столом и что-то рисовала. А в моей голове уже шевелилась мысль, что она не из этого другого, а из моего измерения. Чем-то она была похожа на девочку именно из моего измерения… Кроме того, мне стало теперь известно, что Лизина мама испытывала луч, причем испытывала на себе. И небось догадывалась, что он перемещает… И наверняка она не оставила бы свою дочку в ином измерении одну…
Я наклонился и постучал в оконное стекло к бабушке Сафроновой:
— Можно к вам?
…У бабушки пили чай не из чашек, а из тонких стаканов. Сперва я, конечно, от чая отказался, но бабушка была глуховата и все равно накрыла на три прибора. На самом деле пить мне хотелось: я съел возле больницы пирожок с соленой сосиской. Лидию же так и не увидел. Не мог я прийти в палату к незнакомой женщине. Тем более что там должны были появиться тетя Нина со своим спутником. А в больничном саду Лидии не было.
Лиза с бабушкой потащили меня к столу и уселись сами напротив, а посредине в полосатой тарелке лежали мои любимые ванильные сухарики… И можно было кое о чем расспросить:
— Лиза, а где вы жили с мамой раньше?
Лиза как раз откусила кусок сухаря.
— У тети Нины, — с полным ртом сказала она.
— А до этого?
— На даче у маминых друзей.
— А еще раньше?
— Еще до весны?.. До весны мы жили в Петропавловске-на-Камчатке.
Вот оно что! Разматывается ниточка Лидьиных тайн! Петропавловск-на-Камчатке — как раз то место, куда ездит в командировки папа…
— А где твоя мама там работала? Не помнишь?
— Помню. Институт анти… анти… Трудное такое слово… Ленинградский филиал…
Удивительно, как эта девчушка Лиза умела отвечать на вопросы — выпалила сразу самое главное!.. Филиал — это часть завода или института, которая находится в другом городе. Значит, в Петропавловске-на-Камчатке есть часть папиного института, а Лидия — его сотрудница, вот почему у папы все ее знают. В филиале тоже, наверное, есть испытательная база, Лидия работала на ней и направила на себя лучик. Потом Лидия заболела. Случилось это скорее всего потому, что лучик у них там в филиале получился какой-то не очень хороший. Не такой хороший, как тут у папы. Вот почему папу вызвали в Петропавловск на помощь, а Лидия приехала лечиться хорошим папиным лучом.
Наконец-то все уразумев, я радостно обмакнул кусочек сахару в чай — у бабушки Сафроновой пили чай вприкуску… И подумал, что о любви папы и Лидии — это, безусловно, тети Нинины враки. Просто один человек лечит другого больного человека…
Но тут в окошко стукнули, и в его проеме проявилась тень.
— Ты, значит, у Лизки, Валет? — произнесла тень задорным голосом Динки из сорокового подъезда. — А что моя мама про тебя ска-за-а-ла!.. Я такое теперь знаю про твоего папку. Про твоего папку и про Лизкину мамку… Эх вы!..
Было совсем темно, и
Возле низенькой ограды, поставив на нее туфлю, спиной к прохожим стояла Ника. Мне было совсем не до нее, хотелось проскочить мимо, но вдруг из-за ее ноги выкатился лохматый шар и запищал-заскулил тонюсеньким голоском. Ника обернулась:
— Это ты, Валет? Не бойся, он не кусит. Кузя, ко мне!
Но Кузя и не думал слушаться. Он подпрыгивал, толкался мне в ноги, облизывал мои руки шершавым язычком. Лаять он, наверное, еще не умел.
— Сколько ему? — спросил я.
— Четыре месяца.
— Твой?
— А чей же? — И она взяла щенка на руки. — Ах ты хороший песик, мой единственный дружок!
Ника терлась щекой, носом и лбом о мохнатую мордочку. Но и в темноте было видно, что лицо у нее грустное.
— Ника! — спросил вдруг я. — Что бы ты сделала, если б узнала, что твой папа влюблялся много раз?
Она быстро спустила Кузю на траву.
— Много раз?.. Ну… не знаю… А сколько?
— Два.
— Всего два раза, да?.. То есть один раз — в твою маму, а другой раз в…
— Ага. В кого-то другого…
— А когда в кого-то другого? Теперь или давно?
— Ну, например, давно.
Ника вздохнула:
— Тогда… Тогда я думала бы о той женщине, с которой он расстался. И мне было бы за нее грустно.
Она снова взяла Кузю, и он уткнулся ей в шею.
И тут мимо нас с обычным своим холщовым мешочком в руке прошествовал, помахивая джинсовым клешем, Коля-студент. Он кивнул нам чуть-чуть. А Ника уткнулась носом в Кузю и зарылась лицом в его шерсть.
— Мамуль! Ты когда с папой познакомилась, то уже в больнице работала?
— Да.
— А папа… он уже был немолодой?
— Ну, как тебе сказать? Двадцать восемь лет и два месяца.
— А вы в каком году поженились?
— Ты разве не знаешь? Ровно за два года до твоего рождения.
— Мам, я еще хотел спросить… Вы с ним, когда я уже был… вы не разводились?.. Ну, на время?
— Насколько мне известно, нет, — она пожала плечами, и по тому, как она спокойно это сделала, стало ясно, что сказки насчет наших моторинских семейных неурядиц просто зеленая мура.
Все это время мама заплетала себе на ночь косичку. Но тут она на меня глянула, будто собиралась спросить: "А что это ты вдруг заинтересовался?" Моя настоящая мама так бы обязательно и спросила, и пришлось бы отговариваться: мол, просто так, а она бы настаивала: "Нет, уж ты скажи!" Но
— Мамуль! А тетя Нина не такая уж добрая, правда?
Я сказал это, чтобы хоть намекнуть ей, кто наш настоящий враг. Надо же ей знать это, когда она останется здесь без меня… Но поняла ли мама намек, я заметить не успел, потому что раздался длинный звонок и принесли телеграмму: "Все хорошо буду десятого целую люблю Антон папа".
— Ура! — заорал я.
Десятое августа — это было послезавтра.
"Завтра, наконец-то завтра я буду уже у себя дома! Я прищурюсь от голубоватого лучика, а когда глаза откроются, это будет уже мой мир, мои крыши, мой воздух!" — Я представлял себе, как станет смеяться своим серебристым смехом моя настоящая веселая мама. Папа будет приходить домой только вовремя. И даже если он и там (у нас!) работает на базе, то все равно мой папа наверняка придумал что-нибудь такое, чтобы мама не волновалась… А как, раскрыв в изумлении рот, будет слушать о моих приключениях мой настоящий Герка!..
А может быть, все наши все-таки отправились в Дагестан? Тогда, наверное, я окажусь в Дагестане… В самом деле, мой двойник переместится сюда, а я — на его место в Дагестан, в сине-розовые горы, где падает вниз река Сулак…
— Валь, а Валь! Ты не спишь?
— Сплю! — ответил я.
Я снова ехал через весь город на трамвае к Лидии в больницу. Но Нины Александровны и заместителя папиного директора тут на сей раз не было. Путешествие проходило в гораздо более приятном обществе: Лиза, Нильс и его Эдик.
Они глядели в окно. А я размышлял о разных разностях. И еще вспоминал сон, что приснился мне утром, когда мама ушла к своим больным.
Снилась мне Катерина — настоящая, не
Вдруг из тучи выскочило что-то косматое, большое, завертелось волчком, завыло и из него, загораживая Катерине дорогу, возник Коля-студент в джинсах и с большим гибким хвостом. Коля размахивал хвостом, и тянулся к Катерине, и хрипел: "Птичка-синичка, погодь да погодь!" Но Катерина, не переставая улыбаться, смела его с пути чуть заметным движением ресниц. Коля покатился по мостовой; он катился и катился, свертываясь в странный клубок. А Катерина протянула руки, и ей на шею, смеясь и рыдая, теряя на бегу длинный красный халат, бросилась наша настоящая Ника. Сестры обнялись, а Коля все катился вдаль грязно-бурым клубком…
Наш трамвай дотащился до больницы. Пока вылезали из вагона, пока переходили на другую сторону улицы, Лиза болтала, вертелась и принималась хохотать, да так, что вокруг оборачивались и думали: "Хохочет или плачет?" Но в больничном саду она разом примолкла, вытянулась, будто вдруг выросла, и заспешила подпрыгивающими шажками. Я придерживал ее за ладошку:
— Постой. Спросим, где тут второй корпус…
Но Лиза рванулась вправо, потом влево, завернула в аллейку и замерла: впереди, почти спиной к нам, сидела на садовой скамье похожая на карандаш и, кажется, еще похудевшая Лидия. Она поддерживала рукой ворот больничного халата, на коленях у нее лежала раскрытая книга, а смотрела она прямо перед собой, будто окаменела. Нас она не видела.
Я подтолкнул Лизу: иди, мол, иди! Идти к матери она должна была одна, а мы — ждать ее у ворот, это все было между нами уже оговорено.
Лиза сперва резко дернула плечом: мол, не тронь меня, когда захочу, тогда и пойду! Потом она рванулась к матери. Обернулась на бегу.
И с криком "мама!" бросилась к Лидии на шею. — Почти как Ника в моем сне.
— Уйдем! — потянул меня Нильс.
Он был малыш деликатный.
Шествие возглавлял кот. Он все еще тренировался на ходьбу в поводке, но вместо ленты на нем была уже настоящая ременная петля, и это увеличивало обоюдную ответственность. Кот прыгал по газонам, проскальзывал под оградой, непринужденно проходил сквозь колючий шиповник, а после оборачивался и презрительно ждал, пока все это проделаем и мы со своими неуклюжими, за все цепляющимися телами.
— А лучом ее лечить больше не будут! — объявил вдруг Нильс безо всякой подготовки.
Он говорил, конечно, о Лидии и чуть повел своей патлатой головой в ту сторону, где она должна была сейчас находиться. Я тоже только что думал о Лидии. Думал, что вот наконец приезжает папа, он возьмет Лизину мать к себе на базу…
— Это почему же? — естественно, поинтересовался я.
А сам даже приостановился от удивления. Но Нильс, уже приученный к ходьбе в поводке, проскочил на три шага дальше к дереву, о которое Эдик вздумал как раз поточить свои кошачьи когти.
— Так почему? А? Откуда ты взял? — спрашивал я, едва их догоняя.
— Потому что уже вылечили. Ну, вылечили, насколько вообще можно. Мне тетя Инга сказала.
— Тетя Инга? Тебе?
В моем вопросе звучало недоверие. То есть я знал, что Нильс вовсе не врун. Но чтобы железная тетя Инга, из которой даже я не смог вытянуть ни словечка…
Нильс понял меня и насупился:
— Тетя Инга, между прочим, ко мне в гости приходила…
— Ну, уж так прямо и к тебе?
Она приходила, наверное, к Нильсовой маме за ключом от колясочной (там все хранят велосипеды) или, может быть, соли одолжить.
— Ко мне! — настаивал Нильс. — Перенимать опыт, как воспитывать котов и щенков. Они себе взяли щеночка Кузю. А этот Кузя такой невыученный…
Образцово выученный Эдик драл кору дерева мощными когтями. Но тут он оглянулся на меня с самодовольной мордой. Я дернул Нильса за рукав:
— Ну и что она тебе сказала?
— Про Эдика?
— Тьфу ты! Про Лизину мать.
— А-а-а… Она сказала, что ее мама теперь вообще-то в порядке, только у нее почему-то тоска.
— Чего?
Нильс придвинулся ближе и взглянул на меня снизу:
— Вообще-то про это тетя Инга сказала не мне. Я как раз к их щенку Кузе Эдика приводил, а она стояла у телефона… Тетя Инга сама нас с Эдиком пригласила, чтобы Кузя брал пример, понимаешь? А когда я вошел, она и говорит в телефон: "Все бы пошло на лад, если бы не эта ее неистребимая тоска".
Нильс вдруг опустился на корточки и, забыв про поводок, принялся вытягивать из земли огромный пучок травы. Смотреть на это было странно: ну зачем этот пучок ему нужен? Трава не поддавалась, а он тянул обеими руками. Ни на меня, ни на пораженного Эдика он не смотрел. Но произнес:
— Как думаешь, это у всех от луча будет тоска? Если, например, лечить лучом кого-нибудь другого?..
Он имел в виду, конечно, свою маму, Я тоже о ней не позабыл, я собирался непременно говорить с
Я и Лидия — мы были пока, наверное, единственные люди, которые переходили из измерения в измерение. И то, что происходит с Лидией, мог по-настоящему понять только я. А я вдруг подумал, что, может быть, в этом
Я вписывал в "Записки Вали Моторина" самую последнюю страницу:
"Полночь, двенадцать часов. Значит, папа приедет уже сегодня. Сегодня я проведу в комнате другого Вали последнюю ночь. А мне еще надо написать ему письмо-наказ. Папа отправит меня, а взамен получит собственного сына. Что он сможет это сделать, я узнал вчера точно от самой Лидии… Конечно, Лидия — взрослая и надо бы называть ее по отчеству, но ведь мы с ней все равно что родственники — дети голубоватого луча! Этот луч в одно короткое мгновение разлагает человека на крошечные элементы и создает его в другом измерении почти что снова…"
Тут я почесал затылок и отодвинул «Записки», потому что не знал точно, как луч все это осуществляет. С Лидией мы говорили не об этом.
Мы встретились с ней, как родные и как люди, у которых есть общая тайна. А разговаривали так, чтобы понимали только мы и чтоб никто, если даже случайно подслушает, не смог ничего заподозрить… Как она догадалась, что я тоже побывал под лучом? Этого я не понял. Может быть, она бывала здесь прежде и видела другого Валю? Возможно, она переходила из мира в мир не один раз, а много.
Лидия оставила Лизу на скамейке и подошла ко мне:
— Валентин Антонович! Здравствуй! Спасибо за дочку.
— Не за что, — брякнул я.
Я еще не знал, к чему этот разговор, а она знала.
— Я представляла тебя совсем-совсем другим.
Слово «другим» она сказала по складам и поглядела на меня испытующе: понимаю ли я, что это значит? Я быстро кивнул:
— А я и есть как раз
— Ты
— Я
Теперь она смотрела сочувственно:
— Со мной так бывало несколько раз. Живу-живу, потом присмотрюсь, а вокруг все совсем
— А вам хотелось обратно к тем?
— Еще и как!
— И вы возвращались!
В глазах Лидии появилась грусть, и она медленно помотала своей черной головой.
— А я знаю, что возвращусь, — объявил я, но увидел безнадежность в ее глазах и спросил быстро: — Разве это невозможно?
— Это очень-очень трудно, — она помолчала. — И этого, наверное, не надо. Надо просто сказать себе, что настал новый жизненный этап…
Она ежилась, хотя день был жаркий. Худые пальцы, перебирая халат у ворота, мелко дрожали. Видимо, этот "новый жизненный этап" дался ей нелегко.
— Но ведь так же нельзя! Ведь там остались дорогие люди!
Я почти кричал, а она смотрела на меня влажными, черными, совершенно Лизиными глазами и мотала головой… Просто странно, какие у нее были Лизины глаза. Может быть, из-за этого я решился спросить прямо:
— Вы хотите сказать, что папа мне не поможет?.. Папа приедет завтра. Я жду его и надеюсь… Он не сможет или не захочет?..
И тут она улыбнулась облегченной улыбкой:
— Папа? Ну, папа — это совсем иное дело. Папа захочет, сможет и, конечно, поможет. Я очень верю в твоего папу.
Солнце лежит на полу большими желтыми квадратами. Яркая змейка метнулась по стене — туда-сюда и опять туда.
— Иду! — кричу я, распахивая окно. — Мячик брать?
Внизу, щурясь от солнца и нацеливая на меня ослепительное карманное зеркальце, топчется мой Герка.
— Ага, брать, — кивает он. — И еще — транзистор.
— Как? А маг?
Я спрашиваю удивленно; зачем транзистор, когда моему Герке только-только купили переносной магнитофон? Разве Герка не берет его?.. Но Герка похлопывает в ответ по кожаному футляру — маг спрятался, оказывается, за Теркиной ногой… Значит, берем и транзистор и маг? Отлично!
— Идет! — кричу и сгребаю с тумбочки свои кассеты.
В дверях в пестром платье с васильками улыбается мне
— Валёк! Вы с Герой тоже за город? А мы с папой — к тете Нине на дачу. Там будут все наши: тетя Инга, дядя Олег, Лидия Федотовна… Как там будет весело!
Да, верно, сегодня воскресенье, и
— Надюша! Надюшка! А где у нас ракетки? — рокочет в прихожей мой папа.
Я сбегаю с лестницы. На каждой лестничной площадке меня настигает сквозь окно Геркин солнечный зайчик. Герка хохочет внизу. Сверху летит смех моих родителей. Мои губы складываются в трубочку и насвистывают-высвистывают что-то веселое, ритмичное, летнее: "Хорошо-хорошо!"
И вдруг рядом раздается то ли писк, то ли плач. Слабенький, он чуть слышен сквозь веселый рокот. Но ноги мои сами собой останавливаются: им уже не хочется бежать. "Эдик? — всплескивается внутри. — Это что, Нильсов Эдик?"
Солнце разом гаснет. Потемневшие лестничные стены будто смыкаются над головой. Внутри растет тревога. А в ушах стоит теперь лишь один тихий плач…
Я поднял голову: в соседней комнате поскрипывает мамина тахта, под настольной лампочкой — ворох записей: мой дневник путешествий. Я заснул прямо за столом другого Вали и нахожусь пока еще в чужом измерении.
"Привет, Валя! Эту записку сразу порви на мелкие кусочки, а то мало ли что… А теперь о главном. Маме не говорят, где папа пропадает по вечерам из-за тайны базы, но надо срочно что-то придумать, чтоб она из-за этого не волновалась. Нина Александровна подлиза, ябеда, хвастунья и вредная врунья, ее надо разоблачать и разоблачать… А еще, Валя, тут есть отличные малыши: Лиза и Нильс — и красивый кот Эдик. Ты с ними, пожалуйста, дружи, и пусть никто-никто…" — в этом месте авторучка, которой я писал, сделала жирную фиолетовую кляксу, я ойкнул… и услышал вдруг ответный звук, будто на полу кто-то тоже поставил кляксу.
— Эй, кто тут?
Ответа не последовало… Со странным чувством, что такое со мной уже было, я быстро наклонился. В самом деле, у моих тапок на коврике лежал мой двойник — другой Валя Моторин.
— Привет! — шепнул он. — Значит, утречком меняемся?.. А я вот что… тебе тут купили маг? Нет? Как же тогда быть? Мне купили.
Его рыжие глаза были от меня совсем близко. И вообще — это здорово, поговорить перед обменом.
— Послушай, Валь! — я отодвинул свое уже не нужное письмо. — Тебе тут остаются очень важные дела. Во-первых, Нина Александровна и…
— Так как же быть с магом? — перебил он.
— Валь! Нет, ты послушай! Ведь сам предостерегал про своего папу и про Лидию… И вот выходит…
— Об этом потом!.. А вот как у тебя складывается с дядей Гришей?.. Я-то торчу, знаешь, и торчу у него в гараже… Устроит он тебе «права» или нет?..
Разговор получался, будто с глухим. Я так и спросил:
— Послушай, ты оглох? Ведь с твоими же родителями не все тут в порядке. Не с моими — с твоими! Хочешь, чтобы я поговорил перед обменом с твоим папой?
Он не перебивал, будто что-то понял. Но вдруг как брякнет:
— А может быть, я заберу свой маг с собой? А? Вот только как его взять-то?..
Попробуй, друг, проглоти его со шнуром. Может, в брюхе и перевезешь.
Этому кретину маг был дороже своего родного мира! Хотелось плюнуть с досады на его макушку. Но блеснул голубоватый луч, и двойник исчез, оставив смятый коврик и смятение в моих мыслях.
Так вот, значит, каков этот другой Валя! А он будет здесь вместо меня, и с виду он все равно что я… Утречком он выйдет во двор, к нему бросится Эдик. Что он сделает? Скажет «брысь»? Замахнется ногой?.. А что он выкинет, когда подойдет Лиза?..
От этой мысли сделалось страшно…
Я изо всей силы зажмурил глаза и замотал головой, чтобы только себе этого не представлять. Я говорил себе: "Не думай об этом. Незаменимых людей нет. Имеешь же ты право вернуться к своей маме!"
Да, право-то я имел. Но только переставал трясти головой — и картинка: "Мой двойник встречается с моими малышами" возникала опять как тоскливая заноза… И если бы я хотя бы мог забыть, какой беззащитной перед тети Нининой «дружбой» останется тут
А небо за окном голубело. Папа должен был приехать уже вот-вот. Дневник, что я вел здесь, чтобы взять с собой, лежал уже приготовленный в моем кармане. Нащупывая его, я думал: "Если бы еще только вчера кто-то сказал бы, что я засомневаюсь хоть на минутку возвращаться мне или нет, как бы я тогда смеялся!"
Сейчас хотелось зареветь. Но глаза смотрели в щель занавески абсолютно сухие. В конце переулка показалось такси. Оно двигалось почему-то очень медленно… Будто оставляло мне время подумать. "Хочу к
— Папка!.. Мамуль, приехал папка!..
Я знал теперь, что за болезнь возникает от бледного луча. Она возникает от луча у всех, кто попадает под луч… "В этом измерении я мечтаю о другом, а в другом — тоскую по этому" — вот что такое болезнь «изо-тер-поко-кония», которой мы с Лидией неизлечимо заболели.
 |
| © 2025 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |