"Мальчишки с улицы Пала" - читать интересную книгу автора (Молнар Ференц)
10
В желтеньком домике на Ракошской царила глубокая тишина. Даже жильцы, обычно собиравшиеся во дворе, чтоб вволю посудачить о том о сем, теперь на цыпочках проходили мимо двери портного Немечека. Служанки несли выбивать платье и ковры в самый дальний угол двора, да и там обходились с ними деликатно, чтобы шумом не потревожить больного. Если бы ковры умели удивляться, они, наверно, удивились бы, почему это нынче вместо яростного выколачивания их только осторожно, легонько похлопывают.
Время от времени в стеклянную дверь заглядывали соседи:
— Ну, как малыш?
— Плохо, очень плохо, — повторялся одинаковый ответ. Добрые женщины приносили то одно, то другое:
— Госпожа Немечек, вот немного хорошего вина…
— Не побрезгуйте: тут немножко сладостей…
Маленькая белокурая женщина с заплаканными глазами, отворявшая дверь сердобольным посетительницам, вежливо благодарила за приношения, но воспользоваться ими по-настоящему не могла.
— Ничего не ест, бедняжечка, — объясняла она. — Вот уже два дня удается только попоить его с ложечки молоком.
В три часа вернулся портной. Он принес из мастерской работу на дом. Тихо, осторожно приоткрыл он дверь на кухню и даже ни о чем не спросил жену — только обменялся с ней взглядом. И оба без слов поняли друг друга. Так, молча, постояли они рядом. Портной даже не положил пиджаков, которые держал, перекинув через руку.
Потом на цыпочках они вошли к сынишке. Да, сильно изменился прежний веселый рядовой, а ныне печальный капитан улицы Пала. Он лежал исхудалый, нестриженый,
Они остановились у постели. Это были простые, бедные люди, которые немало горя, несчастий и превратностей судьбы испытали на своем веку и поэтому ни на что не жаловались. Они только стояли, понурившись и глядя в землю. Потом портной чуть слышно спросил:
— Спит?
Жена даже шепотом побоялась ответить и только кивнула головой. Мальчик так лежал, что непонятно было, спит он или бодрствует.
Послышался робкий стук. Стучали в дверь, выходившую во двор.
— Наверно, доктор, — прошептала мать.
— Поди открой, — сказал отец.
Она вышла, отворила. На пороге стоял Бока. При виде друга ее маленького сына грустная улыбка появилась на лице у женщины.
— Можно?
— Входи, детка. Бока вошел:
— Ну, как он?
— Да никак.
— Плохо?
Не дожидаясь ответа, он прошел вслед за ней в комнатку. Теперь втроем они стояли у кровати, и все трое молчали. А маленький больной, словно почувствовав, что на него смотрят и ради него хранят молчание, медленно поднял веки. С глубокой печалью посмотрел он на отца, потом — на мать. Но, заметив Боку, улыбнулся — Это ты, Бока? — слабым, еле слышным голоском спросил он.
— Я.
Бока подошел ближе к кровати.
— Ты побудешь здесь?
— Побуду.
— И не уйдешь, пока я не умру?
Бока не нашелся что ответить. Улыбнулся своему другу, потом, словно ища совета, обернулся к его матери. Но та стояла спиной к нему, приложив к глазам кончик фартука.
— Глупости говоришь, сынок, — сказал портной и откашлялся. — Кхм! Кхм! Глупости.
Но Эрне Немечек пропустил мимо ушей его слова. Не сводя глаз с Боки, он кивнул головой на отца:
— Они не знают.
— Как это не знают? — возразил Бока. — Знают получше тебя.
Мальчуган зашевелился, с большим трудом приподнялся и, отклонив всякую помощь, сам сел в постели.
— Не верь им, — серьезно сказал он, погрозив пальцем, — они нарочно так говорят. Я знаю, что умру.
— Неправда.
— Ты сказал «неправда»?
— Да.
Мальчик строго взглянул на него:
— Что же, по-твоему, я вру?
Его стали уговаривать, чтобы он не сердился: никто ведь не думает обвинять его во лжи. Но он обиделся, что ему не верят, и, нахмурившись, заявил внушительно:
— Даю честное слово, что умру.
В дверь просунулась голова привратницы.
— Госпожа Немечек… доктор пришел. Вошел врач. Все почтительно поздоровались с ним. Это был суровый старик. Не сказав ни слова и только угрюмо кивнув в ответ, он прошел прямо к постели. Взял мальчика за руку, пощупал ему лоб. Потом, наклонившись, стал выслушивать. Мать не удержалась и спросила:
— Скажите, пожалуйста… господин доктор… ему хуже?
— Нет, — в первый раз открыл рот старик.
Но сказал он это как-то странно, глядя в сторону. Потом взял свою шляпу и пошел к выходу. Портной побежал отворить ему дверь.
— Я провожу вас, господин доктор.
Когда оба оказались на кухне, доктор глазами указал портному на открытую дверь. Бедный портной догадывался, что это значит — когда врач хочет поговорить наедине. Он притворил дверь в комнату. Взгляд доктора немного смягчился.
— Господин Немечек, — сказал он, — вы мужчина, и я буду говорить с вами откровенно. Портной опустил голову.
— Мальчик не доживет до утра. Может быть, даже до вечера.
Портной не шелохнулся. Только через несколько мгновений молча кивнул.
— Я это потому вам говорю, — продолжал врач, — что вы человек бедный и было бы плохо, если б удар постиг вас неожиданно. Так что… вам не мешает заранее позаботиться… о чем заботятся в таких случаях…
Он пристально посмотрел на собеседника, потом быстро положил руку ему на плечо:
— Ну, с богом. Через час я вернусь.
Но портной не слышал. Он стоял, глядя прямо перед собой в чисто вымытый кирпичный пол кухни. Не слыхал он даже, как врач ушел. В голове у него вертелось только, что нужно «позаботиться»…Позаботиться, о чем заботятся в таких случаях… Что подразумевал доктор? Уж не гроб ли?
Пошатываясь, вошел он в комнату и сел на стул. Но напрасно жена подступила к нему с вопросом:
— Что сказал доктор?
От него ни слова нельзя было добиться. Он только головой кивал вместо ответа.
Лицо больного между тем как будто повеселело.
— Янош, — обратился он к Боке, — поди-ка сюда. Бока подошел.
— Сядь сюда, на кровать. Не боишься?
— А чего мне бояться?
— Ну, вдруг тебе страшно, что я умру как раз когда ты будешь сидеть у меня на кровати. Но ты не бойся: когда я почувствую, что умираю, то скажу.
Бока присел на постель.
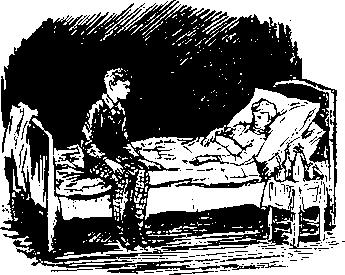 |
— Ну, что?
— Слушай, — сказал мальчуган, обняв его за шею и наклонившись к самому его уху, словно собираясь поведать великую тайну. — Что с краснорубашечниками?
— Мы их разбили.
— Ну, а потом?
— Потом они пошли к себе в Ботанический сад и устроили собрание. До самого вечера ждали Фери Ача, а он так и не пришел. Им надоело ждать, и они разошлись по домам.
— Почему же он не пришел?
— Стыдно было, вот и не пришел. Кроме того, он знал, что его сместят за проигранное сражение. Сегодня после обеда они опять созвали собрание. На этот раз он явился. А вчера ночью я его здесь видел, перед вашим домом.
— Здесь?
— Да. Он у дворника спрашивал, не лучше ли тебе. Немечек не верил своим ушам.
— Сам Фери? — переспросил он, чувствуя прилив гордости.
— Сам Фери.
Это было ему приятно.
— Так вот, — продолжал Бока. — Они устроили собрание на острове. Такой шум подняли! Ссорились ужасно: все требовали сместить Фери Ача; только двое было за него — Вендауэр да Себенич. И Пасторы тоже на него наскакивали, потому что старшему самому хотелось стать главнокомандующим. Тем и кончилось: Фери сместили, а главнокомандующим выбрали старшего Пастора. Но ты знаешь, что случилось?
— Что?
— А то, что когда они наконец угомонились и выбрали себе нового предводителя, пришел сторож и сказал, что директор Ботанического сада не желает больше терпеть этот шум. И прогнал их. А остров заперли: сделали на мостике калитку.
Капитан от души посмеялся над этим конфузом.
— Вот здорово! — сказал он. — А ты откуда знаешь?
— Колнаи сказал. Я с ним по дороге к тебе встретился. Он на пустырь шел — у них там опять собрание «Общества замазки».
Немечек поморщился.
— Не люблю я их, — тихо сказал он. — Они с маленькой буквы написали мое имя.
— Да они уже исправили, — поспешил успокоить его Бока. — И не просто исправили, а одними заглавными буквами вписали в Большую книгу.
Немечек отрицательно замотал головой:
— Неправда. Это ты мне говоришь, потому что я болен. Утешить меня хочешь.
— Вовсе не поэтому, а потому что это правда. Честное слово, правда.
Белокурый мальчуган погрозил худеньким пальцем:
— Да еще слово даешь, чтобы меня утешить!
— Но…
— Замолчи!
Он, капитан, осмелился прикрикнуть на генерала! Самым форменным образом прикрикнуть. На пустыре это было бы тягчайшим преступлением, но здесь в счет не шло. Бока только улыбался.
— Ладно, — сказал он. — Не веришь, сам увидишь. Они специальный адрес составили, чтобы поднести тебе. Скоро придут с ним. Всем обществом явятся.
Но мальчуган упорствовал:
— Пока не увижу — не поверю!
Бока пожал плечами. «Пускай не верит, так даже лучше, — подумал он. — Сильней обрадуется, когда увидит».
Но этим разговором он невольно взволновал больного. Глубоко обиженный несправедливым отношением к нему «Общества замазки», бедняга сам растравлял свою обиду.
— Знаешь, — сказал он, — они поступили со мной просто гадко!
Бока не стал спорить, боясь взволновать его еще больше. И когда Немечек спросил: «Прав я или нет?»- подтвердил: «Прав, прав».
— А ведь я, — продолжал Немечек и сел, откинувшись на подушку, — а ведь я и за них тоже сражался, как и за всех, чтобы пустырь и для них остался! Я ведь не для себя: все равно мне уж больше его не видать!
Он замолчал, подавленный этой ужасной мыслью, что ему никогда больше не видать пустыря. Он ведь был только ребенок и охотно покинул бы все, все на свете, кроме своего «родного пустыря».
На глазах у него выступили слезы, чего не случалось за все время болезни. Но не слезы печали, а слезы беспомощного гнева на ту непостижимую силу, что не позволяет ему пойти еще раз на улицу Пала, поглядеть на форты, сторожку. В памяти его вдруг ожили лесопилка, каретный сарай, два больших тутовых дерева, с которых он рвал листья для Челе, разводившего дома гусениц шелкопряда. Им нужен тутовый лист; но Челе ведь щеголь, жалеет свой элегантный костюм, боится испачкать или разорвать его, а Немечек — рядовой: ну и полезай, рядовой, на дерево. Вспомнилась ему длинная железная труба, весело попыхивающая в ясное синее небо белоснежными клубочками пара, которые мгновенно тают в воздухе. Почудилось даже знакомое завывание паровой пилы, вгрызающейся в полено.
Щеки его запылали, глаза заблестели.
— Я хочу на пустырь! — воскликнул он. И, не получив ответа, повторил строптивей, требовательней:
— На пустырь хочу! Бока взял его за руку:
— Ты пойдешь на пустырь, но на будущей неделе; поправишься — и пойдешь.
— Нет! — настаивал мальчуган. — Я сейчас хочу! Сию минуту! Оденьте меня, а на голову я надену фуражку улицы Пала.
И, сунув руку под подушку, он с торжествующим видом вытащил оттуда сплющенную, как блин, ало-зеленую фуражку, с которой не расставался ни на минуту.
Фуражка была тотчас водворена на голову.
— Одевайте меня!
— Оденешься, когда поправишься, Эрне, — грустно сказал отец.
Но с малышом невозможно было сладить.
— Я не поправлюсь! — кричал он, напрягая свои больные легкие.
И так как заявлял он это повелительным тоном, никто не возражал ему.
— Я не поправлюсь! Вы меня обманываете, я твердо знаю, что умру! Но умру, где мне хочется! Пустите, я пойду на пустырь!
Об этом, конечно, не могло быть и речи. Все подбежали к нему, стали уговаривать, успокаивать, объяснять:
— Сейчас нельзя…
— Погода плохая…
— Подожди до будущей недели…
И снова в ход пускалось все то же грустное обещание, которое окружающие повторяли, уже едва осмеливаясь глядеть в его умные глаза:
— Вот поправишься…
Но все вокруг опровергало их слова. Говорили о плохой погоде, а маленький дворик был залит теплым весенним солнцем, в чьих ярких, животворных лучах все возвращалось к жизни, — все, кроме Эрне Немечека. И жар горячей волной захлестнул мальчика. Как безумный, принялся он размахивать руками, лицо его запылало, тонкие ноздри затрепетали, а из уст полилась торжественная речь.
— Пустырь, — восклицал он, — ведь это целое царство! Вам этого не понять, потому что вы никогда не сражались за родину.
В наружную дверь постучали. Госпожа Немечек пошла открыть.
— Это господин Четнеки, — сказала она мужу. — Выйди к нему, пожалуйста.
Портной вышел на кухню. Этот Четнеки был столичный чиновник, который шил у Немечека. Увидев портного, он спросил раздраженно:
— Ну, как мой коричневый двубортный костюм?
Из комнаты между тем доносилась печальная декламация:
— Грянула труба… Пыль взвилась над пустырем… Вперед! Вперед!
— Пожалуйста, сударь, — ответил портной, — если угодно, можете сейчас примерить; только придется просить вас здесь, на кухне… Тысяча извинений… Мальчик у меня тяжело болен… в комнате лежит…
— Вперед! Вперед! — слышался оттуда охрипший голосок. — Все за мной! В атаку! Видите? Вон краснорубашечники! Впереди Фери Ач с серебряным копьем… сейчас я сброшу его прямо в воду!
Господин Четнеки прислушался:
— Что это?
— Кричит, бедненький…
— Но если он болен, так чего же он кричит? Портной пожал плечами:
— Да он и не болен уж… кончается… бредит, сердечный…
И вынес из комнаты сметанный белыми нитками коричневый двубортный пиджак. Из приоткрытой двери послышалось:
— Тише в окопах! Внимание! Идут… Они уже здесь! Горнист, труби!
Больной рупором приложил руку ко рту.
— Трата… трара… тратата! И ты труби! — крикнул он Боке.
Боке тоже пришлось приставить руку ко рту. Они затрубили вместе: к усталому, охрипшему, слабому голоску присоединился другой — здоровый, но звучавший так же печально. Боку душили слезы, но он держался молодцом, крепясь и делая вид, будто ему тоже доставляет удовольствие трубить.
— Очень жаль, — сказал господин Четнеки, раздеваясь для примерки, — но мне сейчас крайне нужен коричневый костюм.
— Трата! Трата! — летело из комнаты. Портной надел на клиента пиджак, и они стали тихонько переговариваться:
— Прошу вас, стойте спокойно.
— Под мышками режет.
— Вижу, вижу.
— Трата! Трата!
— Эта пуговица посажена слишком высоко, перешейте пониже: я люблю, чтобы лацканы свободно ложились на груди.
— Непременно, сударь.
— Все в атаку! Вперед!
— И рукава, пожалуй, коротковаты.
— По-моему, нет.
— Как же нет? Посмотрите как следует! Всегда вы коротите рукава. Это ваше несчастье!
«Если б только это», — подумал портной, метя рукава мелом.
А в комнате становилось все шумнее.
— Ага! — восклицал детский голосок. — Ты здесь? Наконец я с тобой померяюсь, грозный полководец! Сейчас, сейчас! Посмотрим, кто сильнее!
— Ваты надо подложить, — продолжал господин Четнеки. — Немного в плечи и чуть-чуть на груди, справа и слева.
— Раз! Вот я тебя и повалил!
Господин Четнеки снял новый коричневый пиджак, и портной помог ему надеть старый.
— Когда будет готово?
— Послезавтра.
— Хорошо. Только смотрите, чтоб не пришлось опять ждать неделю. У вас еще какой-нибудь заказ?
— Нет, сударь… вот только ребенок. Господин Четнеки пожал плечами:
— Прискорбный случай, весьма сожалею; но мне срочно нужен костюм. Принимайтесь живей за дело.
— Вот примусь, — вздохнул портной.
— До свидания! — промолвил господин Четнеки и удалился в отличном расположении духа. В дверях он еще раз крикнул:- За дело, за дело, живо!
Портной взял в руки красивый коричневый пиджак. Он вспомнил, что сказал врач. Позаботиться, о чем заботятся в таких случаях… Ну что ж, за дело. Как знать, на что пойдут те несколько форинтов, которые он выручит за коричневый пиджак. Перекочуют, наверно, в карман к столяру — к тому, что мастерит детские гробики. А господин Четнеки будет щеголять в своем новом костюме, прогуливаясь по набережной Дуная.
Портной вернулся в комнату и, не мешкая, принялся за шитье. Он уж не подымал больше глаз на постель сына, а только проворно орудовал иголкой, торопясь управиться с заказом. Работа во всех отношениях спешная: и господину Четнеки подавай, и столяру тоже.
А с маленьким капитаном уже никакого сладу не было. Собравшись с силами, он во весь рост встал на постели. Длинная ночная рубашонка доставала ему до пят. На голове его красовалась сдвинутая набекрень ало-зеленая фуражка. Рука отдавала честь. Он уже не говорил, а хрипел, блуждая взглядом где-то в пространстве:
— Честь имею, господин генерал: командир краснорубашечников положен на обе лопатки. Прошу о повышении! Можете уже считать меня капитаном. За родину я сражался и за родину погиб! Трара! Трара! Труби, Колнаи!
Он ухватился одной рукой за спинку кровати.
— Форты, открыть бомбардировку! Ха-ха! Вон Яно идет! Внимание, Яно! Ты тоже будешь капитаном! И твоего имени уж не напишут с маленькой буквы! Тьфу! Злое сердце у вас, ребята! Позавидовали, что Бока меня любит, что он со мной дружит, а не с вами! «Общество замазки» просто чушь! Выхожу! Выхожу из общества!
И тихо добавил:
— Прошу занести в протокол.
А портной за своим низеньким столиком ничего не видел и не слышал. Костлявые пальцы его так и сновали по материи, только иголка с наперстком поблескивали. Ни за что на свете не взглянул бы он сейчас на сына. Он боялся, что посмотрит туда — и потеряет всякую охоту что-нибудь делать, швырнет на пол изящный пиджак господина Четнеки и сам рухнет на постель рядом со своим мальчиком.
Капитан сел и молча уставился на одеяло.
— Устал? — тихо спросил Бока.
Он не ответил. Бока укрыл его. Мать поправила подушку.
— Ну, теперь полежи тихонько. Отдохни. Мальчик невидящим взором поглядел на Боку. На его лице отобразилось удивление.
— Папа… — пролепетал он.
— Нет… я не папа… — глухо произнес генерал. — Ты не узнаешь меня? Я — Бока Янош.
— Я… Бока… Янош… — усталым голосом тупо повторил за ним больной.
Наступило продолжительное молчание. Мальчуган закрыл глаза и так тяжело вздохнул, будто все скорби людские стеснились в его маленькой груди.
Стало тихо.
— Может, заснет, — прошептала мать. Она еле держалась на ногах, измученная бессонными ночами у постели ребенка.
— Отойдем, — так же шепотом ответил Бока.
Они сели в сторонке на потертый зеленый диван. Теперь и портной оставил свою работу: положил коричневый пиджак на колени и склонил голову над столиком. Все молчали. В дремотной тишине муху, и ту слышно было.
Со двора через окно донеслись детские голоса. Казалось, там толпой собрались дети, которые вполголоса переговариваются друг с другом.
Вдруг слуха Боки коснулось знакомое имя. Кто-то шепотом произнес:
— Барабаш.
Бока встал и на цыпочках вышел из комнаты. Открыл стеклянную дверь кухни и увидел во дворе знакомые лица: у входа робко теснилась целая стайка мальчишек с улицы Пала.
— Это вы?
— Мы, — шепотом ответил Вейс. — Все «Общество замазки» в полном составе.
— Вам чего?
— Мы адрес ему принесли, в нем написано красными чернилами, что общество просит у него прощения и что его имя вписано в Большую книгу одними заглавными буквами. Книга с нами. И делегация вся здесь.
— Не могли пораньше прийти! — покачал головой Бока.
— А что?
— А то, что он сейчас спит.
Члены делегации переглянулись.
— Раньше мы не могли: спорили, кому главой делегации быть. Чуть не полчаса препирались, пока Вейса выбрали. На пороге появилась хозяйка.
— Он не спит, — сказала она. — Бредит. Мальчики оцепенели. Они были потрясены.
— Входите, ребятки, — сказала мать Немечека. — Может, увидит вас — и в себя придет, бедняжка.
И она распахнула дверь. Мальчики друг за дружкой вошли — застенчиво, благоговейно, словно в церковь. Еще во дворе они сняли шляпы. И когда за последним из них бесшумно затворилась входная дверь, передние уже стояли на пороге комнаты, с широко раскрытыми глазами, в почтительном молчании, переводя взгляд с портного на кровать. Портной и тут не поднял головы, только положил ее на руки и продолжал молчать. Он не плакал; просто очень устал. А в постели, тяжело и глубоко дыша, лежал капитан, полураскрыв тонкие губы. Он никого не узнавал.
Женщина подтолкнула мальчиков вперед:
— Подойдите же к нему.
Медленно они сделали несколько шагов по направлению к кровати. Но ноги с трудом им повиновались. Один подбодрял другого:
— Иди, иди.
— Нет, ты сначала.
— Но ведь ты глава делегации, — сказал Барабаш. Тогда Вейс медленно приблизился к постели. За ним на цыпочках подошли остальные. Больной не смотрел на них.
— Начинай, — шепнул Барабаш.
— Послушай, Эрне… — дрожащим голосом начал Вейс. Но Немечек не слышал. Тяжело дыша, он пристально смотрел куда-то в стенку.
— Немечек! — повторил Вейс, чувствуя, как к горлу у него подступают слезы.
— Не реви, — шепнул ему на ухо Барабаш.
— Я не реву, — ответил Вейс, радуясь, что хоть это сумел вымолвить.
Потом собрался с силами.
— Уважаемый господин капитан! — начал он свою речь, вытаскивая из кармана какую-то бумагу. — Поскольку мы явились… я как председатель… настоящим от имени общества… так как мы ошиблись и просим у тебя прощения… Здесь, в этом адресе, все написано…
Он обернулся. На глазах у него показались слезы. Но он ни за что не отступил бы от официального тона, который был им дороже всего на свете.
— Господин секретарь, — прошептал он. — Подайте сюда книгу общества.
Лесик с готовностью подал книгу. Вейс робко установил ее на краю постели и, перелистав, открыл страницу со знаменитым «Протоколом».
— Смотри, — сказал он больному. — Вот.
Ответа не было. Мальчики подошли еще ближе к постели. Мать, вся дрожа, бросилась вперед и припала к ребенку.
— Слушай, — каким-то чужим, дрогнувшим голосом сказала она мужу, — он не дышит…
И приложила ухо к его груди.
— Ты слышишь! — закричала она как безумная. — Он не дышит!
Мальчики попятились назад и, тесно прижавшись друг к дружке, столпились в углу каморки. Книга общества скользнула на пол, раскрытая на той странице, которую отыскал Вейс.
— Слышишь? У него похолодели руки! — в исступлении кричала мать.
И в глубокой, гнетущей тишине, наступившей вслед за этими словами, вдруг послышались рыдания портного, который до тех пор безмолвно, неподвижно сидел на своем табурете, опустив голову на руки. Он плакал тихо, почти беззвучно, как плачут серьезные, взрослые люди, и плечи его вздрагивали от рыданий. Но бедняга и тут не забыл о красивом коричневом пиджаке господина Четнеки, — спустил его с колен на пол, чтобы не закапать слезами.
Мать обнимала, целовала своего мертвого ребенка. Потом опустилась перед постелью на колени и, зарывшись лицом в подушки, тоже стала рыдать. А Эрне Немечек, секретарь «Общества замазки», капитан армии пустыря, белый как мел, лежал навзничь с закрытыми глазами, успокоившись навеки, и теперь уже можно было с полной уверенностью сказать, что он не видит и не слышит ничего вокруг.
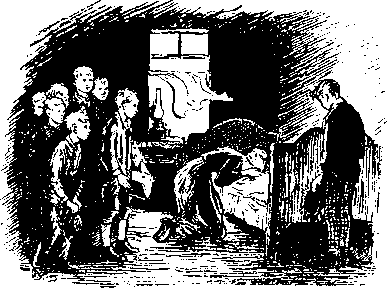 |
— Опоздали, — прошептал Барабаш.
Бока стоял посреди комнаты, поникнув головой. Только что, всего несколько минут назад, он, сидя на краю постели, еле удерживал рыдания, а сейчас с удивлением чувствовал, что глаза его сухи и он не может плакать. В душе его была страшная пустота. Обведя взглядом комнату, он заметил мальчиков, забившихся в угол. Впереди стоял Вейс с адресом в руках, которого Немечек так и не увидел.
Бока подошел к ним:
— Ступайте домой.
И они, бедняжки, даже обрадовались, что можно уйти из этой чужой, незнакомой каморки, где лежит на постели тело их товарища. Один за другим выбрались они оттуда на кухню, а из кухни — на залитый солнцем двор. Последним был Лесик: он нарочно задержался. Когда все вышли, Лесик на цыпочках подошел к кровати и, взглянув на постель, на капитана, тихо покоившегося на ней, осторожно поднял с пола книгу общества.
Потом, догоняя остальных, выбежал наружу, во двор, где в лучах солнца щебетали на хилых деревцах веселые молодые воробьи. Мальчики стояли и смотрели на птиц, не понимая толком, что произошло. Они знали, что товарищ их умер, но смысл этого оставался им неясен. В недоумении поглядывали они друг на друга, пораженные непонятным, неведомым явлением, с которым им пришлось столкнуться впервые в жизни.
Когда Бока вышел на улицу, уже смеркалось. Надо было идти готовить уроки: завтра — трудный день. Завтра латынь, а он так давно не отвечал, что господин Рац наверняка его вызовет. Но было не до уроков. Он отодвинул в сторону учебник и словарь и вышел из дому.
Бесцельно принялся он бродить по улицам, невольно избегая улицы Пала и других знакомых окрестностей. Сердце у него сжималось при одной мысли о том, что он в такой печальный день может увидеть пустырь.
Но куда бы он ни направлялся, везде что-нибудь да напоминало ему о Немечеке.
Проспект Юллё…
Здесь они втроем — с Чонакошем — проходили, отправляясь в первый раз на разведку в Ботанический сад.
Улица Кёзтелек…
Посреди этой маленькой улички они стояли однажды в полдень, после уроков, и Немечек с глубокой серьезностью рассказывал, как накануне в саду Национального музея Пасторы отняли у него шарики. А Чонакош пошел к табачной фабричке, соскреб с оконной решетки немного табачной пыли и втянул ее в нос. Как они тогда расчихались!
Окрестности музея…
Оттуда он тоже повернул обратно. И понял, что чем упорней избегает пустыря, тем сильней влечет его туда какое-то щемящее чувство. Наконец он решился: чем бродить вокруг да около, лучше смело пойти прямо на пустырь. И сразу почувствовал облегчение. Он ускорил шаг, чтобы попасть туда поскорей. И чем ближе подходил Бока к их общему мальчишечьему царству, тем спокойней становилось у него на душе. На улице Марии он так ясно ощутил эту успокоительную близость, что пустился бежать, охваченный желанием очутиться наконец на пустыре. И когда, добежав до угла, различил в сгущавшихся сумерках хорошо знакомый серый забор, сердце у него так и забилось. Пришлось остановиться. Да и спешить уже было некуда: он у цели. Медленно подошел он к пустырю. Калитка была открыта. Возле нее, прислонившись спиной к дощатому забору, стоял Яно с трубкой в зубах. Увидев Боку, он, осклабясь, кивнул ему:
— Разбили их!
Бока печально улыбнулся в ответ.
Но Яно воспламенился:
— Разбили!.. Выгнали!.. Вышвырнули!..
— Да, — чуть слышно произнес генерал.
Молча постоял он рядом со словаком, потом спросил:
— Знаешь, Яно, что случилось?
— Что?
— Немечек умер.
Словак сделал большие глаза и вынул трубку изо рта.
— Который это Немечек? — спросил он.
— Маленький такой, белокурый.
— Ага, — промолвил словак и опять сунул трубку в рот. — Бедняга.
Бока вошел в калитку. Большой незастроенный участок земли, свидетель стольких веселых игр, был теперь тих и спокоен. Бока медленно перешел его и остановился у рва. Ров еще хранил следы боя. На песке всюду виднелись отпечатки ног. Бруствер местами осыпался, обрушенный бойцами, когда они по сигналу атаки вылезали из окопа.
А дальше высились темные, черные громады штабелей, увенчанные фортами, стены которых были осыпаны самодельным «порохом» — песком.
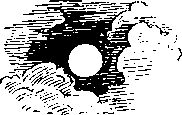 |
Генерал присел на бруствер, подперев голову рукой. Тихо-тихо было на пустыре. Тонкая железная труба, успевшая к вечеру остыть, дожидалась утра, когда прилежные руки снова разведут под ней огонь. И пила тоже отдыхала; и домик дремал, обвитый плетями дикого винограда, на которых уже распускались листочки. Издали, словно сквозь дрему, доносился городской шум. Гремели экипажи, слышались возгласы. А из выходившего в соседний двор окна, в котором уже зажегся свет, лилась веселая песня. Это служанка, наверно, распевала на кухне.
Бока встал и пошел налево, к сторожке. Там, где Немечек, словно легендарный Давид — Голиафа, поверг наземь Фери Ача, он наклонился и стал отыскивать на песке дорогие следы, которые так же исчезнут, как исчез его маленький друг из этого мира… Земля здесь была вся взрыта, но следов не оказалось. А уж он, Бока, узнал бы их! Следы Немечека были ведь так малы, что краснорубашечники удивились, обнаружив их в развалинах в тот памятный день: нога у него была даже меньше, чем у Вендауэра…
Вздохнув, Бока побрел дальше. Миновал форт номер три, на вершине которого белокурый мальчуган в первый раз увидел Фери Ача, когда тот, глянув на него сверху, крикнул: «Смелей, Немечек!»
Генерал устал. День этот измучил его душевно и физически. Он даже пошатывался, как пьяный. С трудом взобрался он на форт номер два и примостился наверху. Тут, по крайней мере, никто его не видит, никто не мешает отдаться дорогим воспоминаниям, а может, и выплакать свое горе, если только удастся заплакать.
Вдруг ветер донес до него чьи-то голоса. Он посмотрел вниз и заметил у сторожки две маленькие темные фигуры.
В темноте Бока не мог разобрать, кто это — свои или чужие, и стал прислушиваться: может быть, удастся узнать по голосам.
Внизу тихонько разговаривали два мальчика.
— Слушай, Барабаш, — говорил один, — вот мы стоим на том самом месте, где бедный Немечек спас нашу державу. Наступило молчание.
— Давай мириться, Барабаш, — опять послышался голос. — Только по-настоящему, навсегда. Ну чего нам ссориться?
— Ладно, — буркнул растроганный Барабаш. — Помиримся. Раз уж для того пришли…
Снова наступила тишина. Оба молча стояли друг против друга: каждый ждал, чтобы другой сделал первый шаг к примирению.
— Значит, мир, — промолвил наконец Колнаи.
— Значит, мир, — с чувством отозвался Барабаш.
Они пожали друг другу руки и долго стояли, не разнимая их. Потом, ни слова не говоря, обнялись.
Свершилось. И это чудо свершилось… Бока сверху, из форта, смотрел на них, ничем не выдавая своего присутствия. Ему так хотелось побыть одному… Да и с какой стати мешать им?
Но вот два друга направились к улице Пала, негромко беседуя.
— На завтра по латыни много задано, — сказал Барабаш.
— Да, — подтвердил Колнаи.
— Тебе хорошо, — вздохнул Барабаш, — ты вчера отвечал. А меня давно не вызывали, значит, на днях обязательно вызовут.
— Смотри не забудь: тринадцать строк из второй главы, с десятой по двадцать третью, учить не надо, — сказал Колнаи. — У тебя отмечено?
— Нет.
— Но ты же не станешь все зубрить — и нужное и ненужное? Давай я зайду сейчас к тебе и отмечу.
— Ладно.
Ну вот, у этих двух уже уроки на уме. Эти быстро забыли. Немечек умер, но зато господин Рац живет и здравствует, и латынь тоже, а самое главное — сами они живы и здоровы…
Ушли, потонули в вечерних сумерках. И Бока остался наконец совсем один. Но на душе у него было неспокойно. Кроме того, становилось уже поздно. С йожефварошского собора плыли мягкие звуки благовеста.
Бока спустился вниз, постоял у сторожки. Он увидел Яно, который шел назад от калитки. Рядом с ним, виляя хвостом и поводя носом, бежал Гектор. Бока подождал их.
— Ну? — спросил словак. — Барчук не пойдет домой?
— Иду уже, — возразил Бока.
— А дома вкусный, горячий ужин, — снова осклабился сторож.
— Вкусный, горячий ужин, — машинально повторил Бока и подумал, что и в домике бедняка-портного, на кухне, тоже садятся сейчас ужинать двое: портной и его жена. А в комнатке горят свечи. И висит красивый двубортный пиджак господина Четнеки.
Просто так, мимоходом, заглянул Бока в сторожку.
Там ему бросились в глаза какие-то странные предметы, прислоненные к стене. Красно-белый жестяной кружок, вроде тех, что держат стрелочники, когда мимо будки проносится скорый поезд. Потом какая-то тренога с медной трубой наверху, белые крашеные рейки…
— Что это? — спросил он. Яно заглянул внутрь:
— Это? Это — господина инженера.
— Какого господина инженера?
— Инженера-строителя. У Боки сердце так и упало.
— Строителя? Что ему здесь нужно? Яно затянулся трубкой.
— Строить будут.
— Здесь?
— Здесь. В понедельник придут рабочие, начнут копать… ров выроют… фундамент заложат…
— Как! — воскликнул Бока. — Здесь будут строить дом?!
— Дом, — равнодушно подтвердил словак, — большой, четырехэтажный… Владелец пустыря хочет строить здесь дом.
И ушел в сторожку.
Боке показалось, будто весь мир перевернулся. Слезы наконец брызнули у него из глаз. Он быстро пошел, а потом побежал к выходу. Он спасался бегством, спеша покинуть эту неверную землю, которую они защищали с такой страстью, таким геройством и которая теперь так вероломно навсегда отказывалась от них ради большого доходного дома.
У выхода Бока еще раз оглянулся назад, как изгнанник, навеки покидающий родину. И к великой скорби, сжавшей его сердце, примешалась капля слабого, но все же утешения. Пусть не дожил бедный Немечек до того момента, когда делегация «Общества замазки» пришла просить у него прощения, зато он, по крайней мере, не увидел, как у него отнимают родину, за которую он погиб.
На другой день весь класс в торжественном молчании застыл на своих местах, и господин Рац неторопливо, серьезно и величественно поднялся на кафедру, чтобы в глубокой тишине помянуть тихим словом Эрне Немечека и пригласить всех завтра, в три часа, собраться в черной или хотя бы темной одежде на Ракошской улице. Слушая его, Янош Бока пристально смотрел на парту прямо перед собой, и в его неискушенной детской душе впервые забрезжила догадка о том, что же, собственно, такое — эта жизнь, которой все мы служим, страдая, радуясь и борясь.
 |
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |