"Песни мертвых детей" - читать интересную книгу автора (Литт Тоби)
Глава пятая МЭТЬЮ
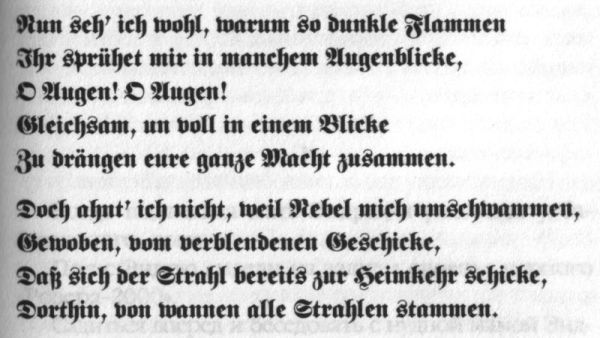 |
Когда подъехала мать Эндрю, я уже ждал у бабушкиного дома.
Пол с Эндрю сидели на заднем сиденье черного «Ровера-2000».
Садиться вперед и беседовать с нудной мамой Эндрю мне не хотелось, а потому я тоже забрался назад.
День выдался небесно-белый и порывисто-ветреный, осенний такой день. Мы молчали все восемь миль до Мидфорда.
Больница напоминала большой кубик, сложенный из темно-красного мидфордширского кирпича.
Внутри были сплошь длинные коридоры и пахло только что отдраенной ванной. Мы шагали мимо нескончаемых палат, забитых стариками. Некоторые из них нам подмигивали и поднимали вверх большой палец — в точности как пилоты «Спитфайров» в хронике, когда они подбивали очередного «Мессершмита». А мы все шли и шли, торопливым таким шагом шли.
Наконец отыскали детскую палату. Питер, одетый в пижаму с синими и белыми полосками, сидел на кровати.
Выглядел он зашибись. А наискось перебинтованный котелок вообще был обалденный, повязки целиком закрывала левый глаз. (Питер потом нам рассказывал, что медсестры все пытались заставить его надеть здоровенную шляпу, чтобы никто ничего не видел. Но он, конечно, отказался. Геройская наружность — это же дико роскошная вещь.) Вот только башка под бинтами казалась какой-то скукоженной.
Нам сказали, что у него ожоги всего лишь первой, а не второй и не третьей степени. Кожа с виду была липкой и розовой. Питеру не разрешили выйти на улицу, чтобы башка не загноилась. А еще он глотал таблетки, от которых ему было фигово.
— Привет, — сказал Питер.
— Здравствуй, — сказал я.
— Привет, — сказал Эндрю.
— Привет, — сказал Пол.
Нам всем не терпелось убедиться, что Архивы спасены. Но конечно, мы не могли спросить, пока рядом торчала мать Эндрю.
А Питеру хотелось узнать, что там с нашими планами отмщения отцу Пола.
Мы стояли, поскольку всем не хватило стульев, стояли и ненавидели это место, в котором заточили нашего друга.
Из окна палаты открывался вид на весь Мидфорд, реку и старую церковь.
— Операции будут проводиться, как запланировано? — спросил Питер.
— Разумеется, — ответил я, стараясь говорить ему в тон.
— С одним существенным исключением, — сказал Эндрю.
— А что насчет нашей главной цели?
— Будем ее преследовать, — ответил Эндрю. (Он имел в виду Табиту, кошку отца Пола.)
Питер улыбнулся. Он понял, что, когда вернется, ему будет чем заняться.
— Забавный вы народец, — усмехнулась мать Эндрю. — И разговоры у вас забавные.
Мы пропустили ее слова мимо ушей. Она женщина, а разве женщины умеют себя вести достойно? Несколько минут длилось неловкое молчание. Наконец мать Эндрю поняла намек и утопала в уборную.
— Быстро! — сказал Эндрю. — Что с Архивами? Они в безопасности?
Питер зыркнул по сторонам, затем достал из-под подушки знакомый скоросшиватель.
Мы поздравили его, и он быстро рассказал, как спас Архивы из горящего здания.
После чего медленно и торжественно, словно на церемонии, Питер передал Архивы Эндрю.
— Храни их, — сказал он. — До моего возвращения.
— А когда ты вернешься? — спросил я.
— Не знаю. Говорят, что скоро, но как скоро наступит это скоро, я не знаю.
Мы посочувствовали ему. Всем нам хотелось, чтобы Питер вернулся прямо сейчас, немедленно.
Тут притопала обратно мать Эндрю.
И мы снова перешли на условный язык, а она все сидела и посмеивалась, пока не истек посетительский час.
Когда мы в следующий раз навестили Питера, он все так же лежал в кровати и вид у него был ничуть не лучше. Ему вроде бы даже повязку не сменили, но бинты все-таки были чистыми, поэтому ее, наверное, все же сменили.
Большую часть времени Питер слушал по радио крикетные матчи на кубок «Урна с прахом».[3] Он теперь знал, как подает и отбивает каждый английский игрок (Став Командой, мы лишь однажды играли во французский крикет. Нас хватило лишь на подающего, отбивающего, стерегущего калитку и одного полевого игрока. Так что игра получилась так себе.) Оставался один матч, серию Англия уже продула. Победили австралийцы. Но Англия могла «еще побороться» за победу в последнем матче.
В другой наш приезд Питер сидел в инвалидной коляске.
— Мне она на фиг не нужна, — прошептал он нам. — Меня заставили. Говорят, я скорее выйду, если буду сидеть в ней.
Настроение у него было паршивое. (Англия продула.)
— Нельзя ли пояснить, как скоро наступит скоро? — спросил Эндрю.
— К концу месяца, — сказал Питер. (Он торчал в больнице уже две недели.)
— Возвращайся быстрей, — сказал я. — А то от лета ничего не останется.
Тут Питер совсем помрачнел.
— Знаю, — сказал он.
В последнее наше посещение мы приехали с отцом Эндрю. Но сам он в больницу не пошел.
— Меня эти больнички нервируют, — сказал он. — Я подожду вас здесь, у машины, курну пару цигарок (Цигарками он называл самые суперские, какие только продаются, сигареты.)
На этот раз Питер в постели не валялся и вообще был полностью одет. В своей собственной одежде выглядел он как-то дурацки. Наверное, потому, что мы привыкли видеть его в пижаме, но в основном потому, что одежду привезла ему из дома мать. Питер выглядел так, словно принарядился к какой-нибудь девчонке на день варенья. Такая цветастенькая рубашка с огромным воротником и синие вельветовые клеши. Остальные тут же порадовались, что на нас форма цвета хаки. Питер сказал, что мать обращается с ним как с младенцем и тащится от этого. Он взял с нас обещание собрать дров для большого костра в Ведьмином лесу, чтобы он смог перепрыгнуть через него и доказать, что вовсе не боится огня. Мы пообещали. Голова его все еще была обмотана, но бинтов стало поменьше
— Когда мы сможем посмотреть твою башку? — спросил Эндрю.
— Я почти поправился, — ответил Питер. — Врач говорит, шрамов почти не останется.
Питеру уже разрешали гулять по больнице. Он провел тщательную разведку здания на тот случай, если придется срочно эвакуироваться. Эндрю сказал, что Питер должен провести нас по больнице, поскольку нам всем эти сведения могут пригодиться. Мы уже знали, где находится детская палата, как в нее попадать и как выбираться. Но Питер знал и кучу другого: где реанимация, рентгеновский кабинет и кожное отделение. Он провел нас по больнице. Пилоты «Спитфайров», завидев Питера, поднимали вверх большой палец и орали: «Эге!» Иногда с ним здоровались медсестры. Они все пялились на нас, улыбались и выпытывали, как нас зовут. Приходилось отвечать. И когда одна из сестричек опять попалась нам на глаза — тащила куда-то бутылку с мочой, — то в точности вспомнила, как нас зовут. Нас это очень впечатлило. Отличная у нее подготовка. Все медсестры объявляли, что Питер вел себя «храбрецом». А то мы этого сами не знали. Он ведь член Команды, а в Команде все храбрецы.
Когда мы рассказали, что сегодня нас привез Лучший отец, Питеру захотелось увидеть его. Он потащил нас к окну, которое выходило на автостоянку. Мы стали махать руками и колотить по стеклу, но отец Эндрю не видел и не слышал нас. Наверное, дым от сигарет мешал. Или шум машин. А может, задумался о чем-то. Мы издали восхищались им. Втайне Питер, конечно, порадовался, что Лучший отец не видит его в этих одежках маменькиного сыночка. Но мы-то чувствовали: для него «большая честь», что отец Эндрю знает о его ранении и обо всем остальном.
Автостояночное окно было в палате, набитой бабуськами.
— Не нравится мне здесь, — пробормотал Питер, озираясь.
Мы слышали, как одна из бабусек разговаривает за ширмой с медсестрой. Медсестра говорила противным голосом, каким разговаривают с младенцем или с полным ку-ку.
— Ну же, миссис, сердечко мое, — повторяла она, — пора нам куп-куп.
Эндрю скорчил рожу.
— Где тут мертвяков хранят? — спросил он.
— Их сжигают, — ответил Питер. — Видел снаружи здоровенную трубу?
— А до того, как сжечь? — спросил Эндрю. — Их ведь суют в железные ящики и складывают штабелями до потолка. Где эти железные ящики?
— Тут одна девочка умерла, — сказал Питер. — Ее унесли. Накрыли покрывалом, только рука сбоку болталась. Такая белая-белая, белей некуда. А перед тем как умереть, она посинела и все время кашляла. Вот так
И Питер принялся судорожно дергаться и кашлять. К нам тут же подошла медсестра и спросила, все ли с ним в порядке. Когда она ушлепала, мы долго ржали.
— У нее рак был, — продолжал Питер. — Иногда люди думают, что у меня тоже рак, из-за перевязанной головы. Думают, что мне сделали операцию на мозге.
— Тебе бы не помешало, — сказал Эндрю.
И мы снова заржали.
Вообще-то я чувствовал себя, как отец Эндрю. В смысле, я тоже терпеть не могу больницы. Они меня нервируют. Мне до жути хотелось стоять рядом с ним на автостоянке, смолить цигарки и разговаривать о том, как мы терпеть не можем больницы.
— Так в какую сторону увезли ту мертвую девчонку? — спросил Эндрю.
— Не знаю, — ответил Питер. — Это ночью было. Ей шесть лет.
Эндрю дал понять, что Питер полный тупица, раз не выследил труп и не выяснил, куда его увезли.
— Я бы выяснил, — сказал он.
Мы знали, что Эндрю не врет. Он всегда был помешан на мертвяках. Однажды мы притормозили наши велики у перекрестка и увидели, как воробей нырнул под машину. Бум! Мы услышали, как он врезался в бензобак или во что-то вроде того, пустоватое, под дном машины. А когда машина уехала, мы увидели, что воробей лежит на дороге. Эндрю спрыгнул с велика и хотел подобрать воробьишку, но тут мимо просвистела другая машина. Плюм! Когда она усвистела себе дальше, то мы увидели, что воробей с одной стороны стал совсем плоским, а все кишки и один глаз у него болтаются снаружи. Мимо проревела еще одна машина. Тогда Эндрю махнул на шоссе и схватил воробья за крыло. Крыло раскрылось красиво, словно веер, но снизу воробей выглядел так, что даже мясника затошнило бы.
— Класс! — заорал тогда Эндрю. — Вы только гляньте!
— Брось, — сказал я.
А Эндрю еще выше поднял птицу и рот раскрыл, словно собирался спагетти проглотить. И тут раздавленный воробей оторвался от веерного крыла и шмякнулся прямо в пасть Эндрю.
Эндрю как харкнет, а потом еще как харкнет, и еще раз сто как харкнет.
Мы все страшно ржали, особенно Пол.
Когда Эндрю закончил харкать, он размазал ногой воробьиные внутренности по асфальту и сказал:
— Тупая птичка.
В другой раз, когда мы были совсем сопливыми, может, лет девять нам было, мы наткнулись на помиравшего кролика. Это было в самом конце Газового переулка. Кролик лежал под живой изгородью и громко-громко дышал. Глаза у него были мутные, словно под пленкой, как у нищих индианок, у которых у всех катаракта. Из-под пленки текла какая-то слизь, вся в пузырьках А шерсть у него выглядела так, словно ее моль пожевала и выплюнула. И тогда снова Эндрю больше всех заинтересовался. Мы ждали, что кролик испугается нас и драпанет, но у него не осталось сил. Эндрю взял его за задние лапы и поднял, кролик оказался жутко длинным, уши едва до земли не доставали.
— Эй, слышите, как сердце бьется? — сказал Эндрю и поднес кролика к нам, чтобы мы потрогали.
Он был прав, сердце у кролика билось ужасно сильно.
Эндрю перекинул кролика через плечо, словно школьную куртку в жаркий день.
— Пойду покажу отцу, — сказал он.
Мы находились в самом конце дороги, то есть прямо за Стриженцами. Лучший отец копал в саду картошку. Эндрю зашагал прямо к нему, но кролика не показывал, вывалил его, только когда подошел вплотную, — к ногам отца.
— Где вы это нашли? — спросил отец Эндрю без всякого удивления.
— Недалеко от Газового переулка, — ответил Эндрю. — Он еще трепыхается.
— Тогда почему бы вам не отнести его в Парк, не найти кроличью нору побольше и не засунуть его туда?
— И что тогда будет? — спросил Эндрю.
Лучший отец рассказал нам про миксоматоз. Что это рак такой кроличий. Что в прежние времена люди специально заражали этим раком кроликов, чтобы те подыхали, потому что их расплодилось слишком много и они сгрызали весь урожай.
— Если этот кролик живой, — сказал отец Эндрю, — то он свою заразу передаст другим кроликам, а те еще другим кроликам.
И он добавил, что это будет чертовски хорошее дело.
— А кролики когда-нибудь выздоравливают после этой болезни? — спросил Питер.
— Нет, — ответил отец Эндрю. — Если уж кроль ее подцепил, то ему хана.
— А люди? — спросил я. — Они ведь иногда выздоравливают, правда?
— Ну да, — сказал Лучший отец. — У людей шанс есть. А теперь уберите эту хрень подальше от моей картошки.
Мы попрощались и ушли.
Теперь Эндрю нес умирающего кролика в вытянутой руке. Слово «рак» ему не понравилось.
(Про людей, болеющих раком, я спросил потому, что у моего дедушки был рак, но мне велели никому об этом не говорить. Дедушка не хотел, чтобы люди знали о его, как он говорил, «личных проблемах». Дома мы даже слово это не произносили. Мы всегда говорили либо «Большое Ры», либо «дедушкина маленькая проблема». Большое Ры сидело у дедушки в простате — это что-то вроде затычки, которая открывается, когда надо струйку пустить. Понятия не имею, как в эту затычку прокралось Большое Ры. Команде я, конечно, рассказал о дедушкиной болезни.)
По дороге в Парк я взглянул на кролика, которого Эндрю на ходу мотал взад-вперед, в такт шагам. Теперь, когда я узнал про миксоматоз, я обратил внимание, что глаза кролика немного похожи на дедушкины глаза. Дедушке иногда нужно покапать в глаза, чтобы он смог видеть. Я ему всегда капаю.
Эндрю сказал, что знает, где находится самая большая кроличья нора в Парке. Вообще-то каждый из нас знал про самую большую кроличью нору. Но Эндрю повел нас на вершину Оборонного холма (где много лет спустя мы стояли и смотрели в сторону Питера, лежащего в больнице), а затем мы немного спустились по противоположному склону. В земле было три дырки. Повсюду раскидан серый песок и горошинки помета. Эндрю выглядел страшно довольным, он ведь занимался двумя самыми своими любимыми вещами на свете: подчинялся отцу и убивал животных. Он запихал кролика в самую большую нору и вытер руки о штаны сзади.
— Наш урожай в безопасности, — сказал он.
Отважно напрягая последние силы, кролик попытался выпрыгнуть из норы. Наверное, он хотел спасти своих братьев и сестер.
У Эндрю братьев и сестер не было. Он быстро шагнул к норе и пнул кролика в голову.
Все мы услышали, как хрустнула шея.
Эндрю нехорошо выругался. Он поднял за ухо обвисло-мертвого кролика и выругался снова, а потом еще.
— Зачем это дерьмо выпрыгивало! — сказал он.
— Ты положил конец его страданиям, — сказал я.
— Но он нам нужен живым, чтобы побольше кроликов передохло, — очень серьезно сказал Эндрю. — Чтобы наш урожай был в порядке.
У Питера был такой вид, словно он со мной согласен.
— Все равно опусти его в нору, — сказал он. — Если он не остыл, то, может, еще подействует.
Эндрю отпустил кролика, и тот сгинул во мраке подземелья.
— Почему бы нам не поискать еще больных кроликов? — предложил Пол. — Притащим их сюда и изничтожим весь кроличий род.
— Пойду отцу помогу в саду, — угрюмо сказал Эндрю. — Ему ничего не говорите.
С тех пор Эндрю более чем сполна поквитался за того кролика.
Наконец мы вышли из больницы, а Питер остался у окна — смотреть, как мы садимся в машину Лучшего отца. На улице мы повернулись, чтобы помахать Питеру, но его у окна не было.
— Как он там? — спросил отец Эндрю. — Надеюсь, улыбается во весь рот.
— По виду настроение у него ничего, — сказал Эндрю.
— На следующей неделе его выписывают, — добавил Пол.
— И повязка уже поменьше.
— Точно, Мэтью? — спросил отец Эндрю. — Тогда все ништяк
По дороге в Эмплвик он беспрестанно курил. А когда на глаза нам попалась тележка с мороженым, остановился и купил нам всем по великанской порции.
Питера выписали через неделю. Его привез отец. Питер сидел на переднем сиденье лилипутского «Мини». Мы стояли у их дома и ждали вместе с его матерью. Кухня была полностью отремонтирована. Отец Питера заплатил отцу Эндрю, чтобы тот все сделал, и стало даже лучше, чем раньше.
«Мини» остановился у калитки. Сквозь блики на ветровом стекле мы видели Питера. День выдался холодный, не такой, как предыдущие. Небо было уже не голубым и глубоким, а плоским и белесым. Кончилось лето. Листья скрежетали под колесами «Мини», словно кошачьи хребты ломались. Мы приехали на велосипедах. Нас изводило чувство вины из-за того, что каникулы пропали, пока Питер находился в больнице. Осталось всего две недели. Времени уже ни на что не хватало. Питер сам открыл дверцу машины и медленно выбрался. Мы боялись, что он теперь такая дохлятина, что даже ходить не сможет. Хотя мы и навещали его не реже раза в неделю, мы все равно боялись, что он изменился. Питер сам втащил свой чемодан в дом. Чемодан был весь залеплен наклейками с названиями мест, где Питер никогда не бывал, ему чемодан уже таким подарили. Питер сразу двинул наверх, к себе в комнату. Мы хотели двинуть следом. Нам хотелось остаться и поболтать с ним, но его мать отослала нас прочь.
— Сейчас ему нужен отдых, мальчики, — сказана она. — Вы же понимаете.
Мы подумали, что Питер начнет возражать, но он смолчал. Просто двинул к себе в комнату и сел на краешек кровати. От повязок голова казалась слишком громадной для его тела, словно у зародыша цыпленка.
Мы оставили Питера с матерью, которая уже принялась кудахтать вокруг и стаскивать с него свитер.
Мы не видели Питера всю неделю. Родители не подпускали нас к нему. Эндрю хотел вернуть ему Архивы, он сказал, что это пойдет Питеру на пользу. Пол находил эту идею глупой, потому что Питер все равно заперт в казармах. А значит, не может написать отчет об операции из первых рук. Пол хотел взять на себя ведение Архивов, пока Питер не выпишется из больницы, но Эндрю поручил Архивы мне. Если честно, мне это дело совсем не нравилось, я вообще ненавижу писать. И я никогда не знаю, что и как написать, для меня это все равно что домашнее задание. Я до смерти ненавидел большие пустые страницы с их дурацкими косыми линейками, которые пялятся на тебя и ждут, когда ты их заполнишь словами. Я прочел все, что написал Питер, а потом частенько сдувал у него отдельные предложения.
Прошла операция «Барсук». Успешно.
Я заболел в понедельник, через неделю после того, как Питер выписался из больницы. Болезнь напала на меня стремительно.
Утром в десять ноль-ноль мы должны были встретиться за Стриженцами. Мы собирались проверить, не разрешит ли мать Питера повидаться с ним — до сих пор она ни разу не пустила нас к нему.
Когда я сошел к завтраку, в голове было какое-то странное ощущение, словно в нее запихнули теннисный мячик. Мячистая какая-то голова.
В доме я был один. Вообще в тот день все шло странно. Обычно меня вот так дома не оставляли. Обычно, когда я спускался на кухню, бабушка мыла посуду после завтрака. Обычно у нас завтраки сытные и плотные. Я каждое утро просыпался от запаха яичницы с беконом, пожаренной на сале. И каждое утро бабушка предлагала приготовить «что-нибудь легонькое» для меня, хотя я всегда кричал — НЕТ! Потому что я не желал весь день ходить тошнотно-вонючей обжориной.
Сегодня бабушка с дедушкой уже съели свой обжористый завтрак и отправились в садовый питомник покупать новый розовый куст. Они уже несколько дней только об этом талдычили. Им приспичило купить какой-нибудь древний сорт — «старый розовый мох» или «золотые крылья». Они всё показывали мне фотографии в каталогах и спрашивали, какой цветок мне больше нравится. (Словно меня интересуют цветочки.)
Миранды дома тоже не было. Она усвистела в Германию по этому дурацкому обмену. В Баден-Баден-Баден усвистела или куда-то еще.
Меня все еще одолевала сонливость, но не нормальная утренняя сонливость, а такая, со всех сторон сонливость: и сверху, и с боков, и снизу.
На столе меня ждали чайник в синюю и белую полоску, молочник, тарелка и кружка.
Каждое утро я мог выбрать, что захочется: кукурузные хлопья с молоком и сахаром или горячий тост с маслом и повидлом.
Когда я болею, то мне хочется кукурузных хлопьев. Но я и тост мог съесть, запросто, мне без разницы. Вообще-то, если честно, тост с повидлом мне нравится больше хлопьев.
Главное — поесть надо было поскорее. Я не хотел опоздать на встречу.
У меня есть ускоренный вариант завтрака: я выкладываю все, что может понадобиться, на стол и быстро-быстро ем, не теряя времени на то, что бы вставать и чего-то доставать.
Но с тостом так просто не получалось: ведь тост сначала нужно поджарить на решетке.
В день своей болезни я запустил быстрый вариант. Сыпанул в миску кукурузных хлопьев и достал из холодильника новую бутылку молока. (Ненавижу обезжиренное водянистое молоко и ненавижу теплое молоко.) Пододвинул поближе сахарницу. Налил себе стакан ярко-оранжевого апельсинового сока.
Сегодня утром он казался еще ярче обычного. Голова позвякивала, точно дверной звонок
На хлопья я плюхнул сахарного песку. И налил молока — до самого краешка. Затем сел и стал давиться хлопьями — ненавижу раскисшие кукурузные хлопья. И остывшие тосты ненавижу.
Голова почему-то немножко кружилась. Я сжевал ложек пять хлопьев, когда почувствовал, что меня вот-вот вытошнит.
Я сунул в рот очередную ложку и вдруг понял, что надо срочно рвать когти к унитазу. А унитаз у нас наверху, в ванной.
Я побежал.
Я не успел.
Я вытошнился на ковер, который лежит на верхней лестничной площадке.
Я посмотрел на тошнотину, такую желтую на фоне коричневых загогулин. Выглядело так себе. Молоко точно было обезжиренное и водянистое. Кукурузные хлопья явно раскисли. И все в какой-то слизи сверху: на птичку похоже, которую отрыгнула кошка. Даже с первого взгляда я понял, что это не похоже на обычную тошнотину.
Я решил спуститься на кухню и засунуть молоко в холодильник Я был готов к тому, что опять вытошнюсь, когда стану сгребать остатки кукурузных хлопьев в помойное ведро.
Мне вдруг стало ужасно жарко. И с лестницей творилось что-то странное — она удалялась от меня, совсем как в кино. Мне было понятно, что нужно убрать за собой, но у меня было дело поважнее — поскорее добраться до постели.
Но сначала я потащился в ванную: чтобы очистить зубы от тошнотных ошметков.
Потом пошел к себе в комнату, по дороге у меня опять в животе забурлило, но я сумел удержать тошнотину во рту и выплюнуть ее в мусорную корзину.
Пришлось поворачивать назад, обходить гадость на площадке, заходить в ванную и снова чистить зубы.
От этой ходьбы туда-сюда я страшно вспотел. Голова закружилась еще сильней, мне срочно нужно было лечь. Я положил на раковину зубную щетку, всю в голубой пене от зубной пасты.
Я настолько отупел, что забыл про тошнотину у лестницы и наступил прямо в середину. Поскользнулся и шлепнулся на задницу. Вся левая сторона пижамных штанов оказалась в тошнотной гадости.
Я встал. Тошнотина еще больше расползлась по ковру, а прямо в центре отпечатался след ноги
Я вернулся в ванную, снял пижамные штаны, бросил их в ванну и налил немного воды. Голова кружилась сильней.
На этот раз я смотрел на тошнотину внимательно и обошел ее.
Я забрался в постель. Словно в уютную норку. Мишка лежал рядом. Но мне стало хуже. Головокружение превращалось в головоболь. Голова глухо гудела.
Сколько я ни метался, сколько ни ерзал, найти удобное положение мне не удалось.
Меня вдруг словно огнем опалило, поэтому я сбросил тонкое оранжевое одеяло. А потом вроде как мороз ударил, поэтому я натянул одеяло обратно.
Боль в голове нарастала: как будто у меня в черепе орудовали паяльной лампой.
Начала цепенеть шея. Правда, я сперва решил, что отлежал ее.
Хотя я два раза почистил зубы, изо рта несло тошнотной гнилью. Мне снова захотелось вырвать.
Я встал, чтобы пойти в ванную. Голова болела так сильно, что я едва мог переставлять ноги. Теперь заболели и другие органы: локти и лодыжки.
Я обошел озерцо тошнотины. Свет в ванной резал глаза.
Я опустился на колени перед унитазом и попытался заставить себя вытошниться. Коленям было холодно от кафельных плиток на полу. Но из живота ничего не вытошнилось, кроме какой-то полупрозрачной липкой сопли.
Мне захотелось ненадолго прилечь на полу и набраться сил. Но свет был слишком ярким, поэтому я решил вернуться в постель.
Я выдавил в рот немного пасты, чтобы избавиться от гадостного вкуса.
Я старался не смотреть в ванну, чтобы от вида пижамы меня снова не затошнило.
Я переступил через озерцо тошнотины.
В комнате я поплотнее задернул шторы. Но все равно было светло. Шторы белые и в паровозиках. Их подбирали к обоям, на которых «Летучий шотландец»[4] и другие поезда.
Я натянул простыню на глаза и сложил ее пару раз, чтобы получилась плотная повязка. Мишка лежал рядом. Я хотел пить.
Голова болела так сильно, что я закричал от боли.
— Хватит! — сказал я. — Хватит.
Единственная приятная вещь заключалась в том, что мне снова захотелось спать.
Я заснул, и мне приснился странный сон: со всех сторон на меня нападали всякие разные боли, но я был как генерал-майор, который разглядывает карту крупного сражения из безопасного места вдалеке от передовой.
Меня там не было. Я чувствовал спокойствие, я контролировал ситуацию — как генерал-майор.
Бабушка с дедушкой скоро вернутся.
На самом деле они вернулись даже раньше.
Симптомы (теперь я знаю, что это так называется) стали хуже. Теперь в моем теле болела каждая косточка. Я ощущал каждый сустав в пальцах ног. Или мне казалось, будто я ощущаю. Головная боль то стихала, то разыгрывалась по новой — в зависимости от того, насколько я погружался в дрему.
Но сквозь всю эту боль я продолжал думать о главном: станет ли сегодняшний день тем днем, когда мать Питера разрешит нам увидеться с ним?
Основная причина, почему я желал, чтобы вернулись бабушка с дедушкой, заключалась не в том, что мне хотелось сообщить им о своем ужасном состоянии (а хуже я в своей жизни себя не чувствовал), а в том, что мне хотелось попросить их передать о нем остальным.
Услышав, как машина («Моррис Трэвеллер») свернула на дорожку, я осознал, что слишком слаб, чтобы встать и открыть дверь бабушке с дедушкой. По дому было раскидано достаточно примет, чтобы они поняли, что происходит нечто необычное. Надеюсь, они не совсем уж мячистоголовые и хоть одну примету заметят.
За окном сиял ослепительно синий солнечный день.
Я услышал, как бабушка сказала на кухне:
— Взгляни, сколько кукурузных хлопьев он оставил. Я просто не понимаю.
Это была первая примета.
Дедушка подошел к подножию лестницы и крикнул:
— Мы купили «золотые крылышки». Ты не хочешь спуститься взглянуть, пока мы не посадили?
Молчат.
— Мэтью! — крикнул дедушка.
— Очень красивая! — крикнула бабушка.
Они всегда кричат одновременно.
— Мэтью? — проворковал дедушка.
Дедушка с бабушкой стараются не подниматься по лестнице, если можно этого не делать. Я всегда приношу им вещи из их спальни. Я знаю, где что лежит. Я даже приношу им лекарства из аптечки в ванной. (Миранда тоже приносит, но они предпочитают, чтобы это делал я. Я это точно знаю.) Ну уж теперь-то они наверняка догадались, что происходит что-то не то. Я почти видел, как они недоуменно, по-стариковски переглядываются.
— Может, он ушел, — с надеждой сказал дедушка.
— И оставил после себя грязную тарелку?
— Может, он торопился.
Бабушка поднялась наверх и увидела вторую примету.
— О господи, — сказала она.
Голос ее звучал испуганно, а не сердито.
— Что такое? — прокричал дедушка.
Так один альпинист окликает другого.
— Здесь все перепачкано. По-моему, его вырвало.
Бабушка ворвалась в мою комнату и раздернула шторы с паровозиками, впуская слишком яркий свет. Третью примету — пижамные штаны в ванне — она пропустила.
— Господи! — воскликнула она, увидев меня в постели. — Что с тобой?
— Не знаю, — ответил я.
Говорил я с трудом. Головная боль большим щетинистым пауком ворочалась внутри черепа. Иногда паук прижимался к лицу, острыми лапками впиваясь в глаза, нос, зубы. Иногда паук уползал в темный уголок, где-то в самом низу шеи.
— Тебя тошнит? — задала глупый вопрос бабушка.
— Я не смог удержаться, — ответил я. И затем высказал свою самую животрепещущую просьбу. — Ты можешь позвонить матери Эндрю и попросить ее сказать Эндрю, что я заболел и не смогу прийти?
Бабушка прижала к моему лбу прохладную и гладкую ладонь.
— У тебя жар.
— У меня все болит, — подтвердил я. — И голова кружится.
(Видите: я сказал все, что должен был. Просто бабушка слишком тупая, чтобы понять, как много это значит. Если бы она поняла, все могло бы выйти иначе.)
— У тебя, наверное, желудочная инфекция, — сказала бабушка. — Или грипп. Летний грипп. Кто-нибудь из твоих друзей болел гриппом?
— Нет, — ответил я, словно оправдываясь.
Мы никогда не болели. Навещая Питера, мы впервые оказались в больнице — со дня нашего рождения.
— С ним все в порядке? — крикнул дедушка.
— По-моему, у него грипп, — крикнула в ответ бабушка.
— Что? — завопил он. — Ничего не слышу.
— Грипп!
— А-а, — заорал дедушка. — Я чайник поставлю.
Какие же они бестолковые. И несообразительные. Как динозавры.
— Что-нибудь тебе принести? — спросила бабушка.
Я знал, что вчера на почту привезли новый выпуск «Битвы». Может, воспользовавшись болезнью, заставить ее купить журнал? Но я понимал, что он просто будет лежать рядом со мной в темноте. Глаза болели. Если до завтра не поправлюсь, то обязательно попрошу.
— Нет, — ответил я.
Мне хотелось быть храбрым и не плакать, Миранда на моем месте уже давно ревела бы в сто ручьев. Но что же такое с головой? Как больно. Я ждал, когда бабушка выйдет из комнаты, чтобы пару раз застонать, уткнувшись в подушку из гусиного пуха.
— Ты считаешь, что меня нужно показать врачу? — спросил я.
Скрюченными пальцами бабушка откинула мне волосы. Я уловил сладковатый запах пудры. В горле стало щекотно. Я знал, что если кашляну, то меня снова вытошнит. А во мне не осталось ничего, что можно было бы вытошнить.
— Не будем беспокоить его без особой причины, — ответила бабушка.
Бабушка с дедушкой всегда так говорят. Дедушка ждал шесть месяцев, прежде чем решил, что его Большое Ры достаточно серьезно, чтобы побеспокоить врачей. Бабушка с дедушкой считают, что врачей зовут, только когда нужно удостоверить, что дела совсем плохи. Понятно, если тянуть целую вечность, то дела непременно будут плохи. Меня это всегда раздражало. Именно поэтому дедушка теперь умирает. И он это заслужил, подумал я.
— Нет, — сказала бабушка. — Я приготовлю тебе хорошую чашку чаю с медом.
Боль напала с новой силой, я не смог удержаться от стона.
— О господи, — вздохнула бабушка. — Добавлю в чай капельку парацетамола.
Она вновь дотронулась до моего лба.
— О-о, — сказал я, поскольку меня опять пронзила боль. — Очень больно.
Бабушка встала. Она выглядела больше и сильнее обычного.
— Пойду принесу тебе парацетамол.
Она ушла.
Я слышал, как они с дедушкой шепчутся на кухне. До них дошло, что им придется подниматься и спускаться по лестнице с опасными для жизни подносами. Что они могут споткнуться и упасть.
Черный паук у меня в голове принялся плести паутину. Боль прекратила перекатываться из стороны в сторону. Черным лаком она покрыла меня всего — изнутри и снаружи.
Вернулась бабушка с чаем. Она заставила меня привстать и проглотить две таблетки, а затем выпить полстакана воды.
Я откинулся на подушку и попытался заснуть. В ноздри ударил больничный запах дезинфицирующего средства, которым бабушка чистила ковер на лестничной площадке.
Около одиннадцати я услышал дверной звонок Эндрю пришел узнать, что со мной стряслось и почему я не появился. Остальные ждали снаружи, на велосипедах. Я был настолько слаб, что не мог пошевелиться. Под левой рукой лежал мишка. Я слышал, как бабушка говорит, что, вероятно, завтра мне станет лучше.
Время от времени бабушка входила ко мне в комнату, приносила чай с медом, который я не пил, потому что ненавидел его и ненавидел бабушку за то, что она мне его таскает. Мне до смерти хотелось апельсинового сока.
Будучи полной тупицей, бабушка продолжала таскать мне чай «Эрл Грей», вкус которого всегда казался мне похожим на старушечью мочу. Бабушка знала, что я терпеть его не могу. Она точно знала. Но она продолжала таскать мне этот вонючий чай. Наверное, потому, что считала старушечью мочу самым полезным лекарством.
Я вспотел. У меня пересохло во рту. У меня кружилась голова. У меня не было сил.
— Лучше чувствуешь себя, дорогой? — спрашивала бабушка.
Я что-то стонал в ответ.
Она снова и снова клала ладонь мне на лоб.
— Худшее скоро будет позади, — говорила бабушка.
Вот в этом она была права.
Она выходила и заходила.
Однажды, когда она была внизу, у меня случился очередной приступ боли. Прошло уже больше трех часов с того времени, как меня вытошнило. И мне становилось все хуже.
Мое тело меня больше не интересовало. Я думал, что если смогу избавиться от боли, то будет классно избавиться заодно и от дурацкой жизни, которая приносит такую боль.
Нет смысла описывать, какую именно я чувствовал боль, потому что, как только я перестану ее описывать, вы перестанете ее чувствовать и даже о ней думать перестанете. Вот почему мне не нравятся слова: они не могут передать то, что всегда с тобой. А если и пытаются, то оказываются обычной глупостью. («О-о, — сказал я. — Жуть какая».) Потому что такой сильной боли у меня не было, никогда не было, никогда.
Около шести часов случился совсем уж нестерпимый приступ, и я вырубился.
Бабушка внизу слушала «Арчеров»[5] и потому поднялась лишь через пятнадцать минут.
Разбудить она меня не смогла, даже с помощью криков и шлепков, и тогда до нее дошло, что пора побеспокоить доктора.
Вид у меня был такой, словно я уже умер. Волосы прилипли к стянутому от сухости лбу. Кожа стала серой, дряблой и холодной.
Бабушка знала, что если человек выглядит так, будто скоро умрет, то доктор не против, если его побеспокоят.
Минут десять бабушка с дедушкой горячо спорили.
Дедушка сказал, что, по его мнению, местный медпункт уже закрыт. (Было семь двадцать вечера.) Дедушка считал, что надо подождать до утра и посмотреть, как я себя буду чувствовать.
А бабушка повторяла как заведенная:
— Мне кажется, дело серьезное.
После того как она произнесла эту фразу около ста миллионов раз, до дедушки дошло, что дело серьезное.
Дедушка отыскал номер в местном телефонном справочнике, набрал его, попал не туда, извинился, повесил трубку, вновь набрал, услышал сигнал «занято», повесил трубку, снова набрал, дозвонился.
Когда на том конце провода стали расспрашивать о симптомах, дедушке все же пришлось передать трубку бабушке.
— Да, его тошнит. По всему ковру. Да, у него жар. Чтобы сбить температуру, я дала парацетамол. Да, сейчас он в постели, занавески задернуты. Ну, он жаловался, когда я включала свет, да. Я не знаю, он сказал, что больно. Я подумала, что, может, это из-за того, что он не так давно упал с дерева. Приступы? По-моему, у него их нет. Приступы? Вы говорите, приступы? Ну, кажется, он спит. По-моему, около часа. Да, я только что пыталась его разбудить. Нет, не проснулся. Что? Прямо сейчас?
Бабушка повесила трубку.
— Они едут, — сказала она. — Они считают, что дело серьезное.
С этого момента события развивались в ускоренном темпе.
Врач прибыл через десять минут.
Доктор вошел ко мне в комнату один. Ноздри его дернулись, ощутив кислый запах дезинфекции, исходящий от ковра.
Я с ним уже встречался — мне тогда делали прививки и давали сахарный кубик от полиомиелита.
Доктор вошел в комнату, когда у меня начался сильнейший приступ. Я походил на дрожащего пса.
Он включил лампу, чтобы лучше видеть. Я смог лишь зажмуриться, отвернуться от слепящего света не было сил.
Костяшками пальцев доктор коснулся моего лба, прослушал стетоскопом, как стучит мое сердце: бум-бум-бум-бум.
Потом вышел на лестничную площадку и авторитетно произнес:
— Я считаю, что нужно немедленно вызывать «неотложку».
Дедушка с бабушкой стояли у кухонной двери, уцепившись друг за друга, словно они находились на верхней палубе океанского лайнера, угодившего в болтанку.
— Что с ним? — спросила бабушка.
— Что с ним случилось? — спросил дедушка.
— Точно не знаю, — ответил доктор, хотя на самом деле все он знал. — Но его нужно немедленно отвезти в больницу.
Дедушка принялся набирать номер, но раз за разом ошибался. Глаза его были затуманены девчачьими слезами, так что он практически ничего не видел.
От слова «больница» я очнулся, наполовину.
— Мне сделают укол? — спросил я.
— Об этом не беспокойся, — ответил доктор.
— Но мне сделают укол? — Я это повторял как попугай только лишь потому, что был очень болен.
— Попробуй задремать.
— Не хочу уколов, — сказал я и пошевелился. Голова полыхнула от боли и погрузилась в темноту, а я погрузился в нечто, похожее на сон.
— Мэтью? — позвал доктор.
Я не слышал.
— Черт, — сказал он, затем достал из чемоданчика какое-то лекарство и сделал мне укол в руку.
Бабушка крикнула снизу
— С ним все будет в порядке?
Доктор не ответил. Он изо всех сил пытался спасти мне жизнь.
Дедушка наконец дозвонился до службы спасения, назвал адрес и лишь потом сообщил, что ему нужна «скорая», а не пожарная охрана и не полиция.
Операторше пришлось его успокаивать, чтобы он немного пришел в себя.
— Поторопитесь! — крикнул он, словно телефонистка сама собиралась сесть за руль «скорой».
Бабушка поднялась по лестнице и теперь стояла в дверях спальни.
Доктор пытался заставить меня открыть глаза.
— Мэтью, очнись! — кричал он. — Мэтью, это очень важно, очнись, Мэтью!
Бабушка никогда прежде не слышала, чтобы доктора кричали. В реальной жизни не слышала. Только по телевизору. Но там ненастоящие доктора. Она была потрясена и в потрясении поняла, что я действительно могу умереть.
— С ним все будет в порядке?
И тогда доктор сказал нечто очень-очень важное для всего, что случилось потом.
Он сказал:
— Почему вы не позвонили раньше?
— Мы не хотели вас беспокоить.
— Сколько именно времени он находится в таком состоянии?
— Не знаю. Мы ездили в питомник за саженцами.
Бабушка съежилась в углу, словно ждала, что человек в белом халате ее ударит.
— Он серьезно болен, — сказал доктор. — Мы отвезем его в мидфордскую больницу. Там сделают все, что смогут.
— Нужно было позвонить раньше, да? — спросила бабушка.
Доктор был человеком воспитанным, а потому промолчал.
Если бы я мог, я бы на бабушку наорал. Я бы крикнул что-нибудь вроде «Это ты во всем виновата! Я умру, и ты будешь виновата. Ты меня убила, потому что ты дубье, дубье, дубье, дубье. Тебе не хотелось никого беспокоить. Тебе хотелось, чтобы все было по-тихому. Так вот, скоро я совсем затихну. Я не произнесу ни слова. Никогда. Я буду совсем мертвым!»
Приехала «скорая». Меня положили на носилки, совсем как Питера, и понесли вниз, дергая на каждом шагу. Мишка остался дома.
В голове, охваченный безумной паникой, сновал паук, оставляя в моем черепе рытвины острыми, как иглы, лапами.
Я стонал, но ничего не говорил. Я вырубился.
Наши соседи — семейство Поупов и семейство Дженкинсов — вышли из дома, чтобы выяснить, что там за шум.
Они думали, что на носилках лежит мой дедушка. Они были потрясены, увидев в сгущающемся сумраке, что это я на носилках лежу. Я — Мэтью. Похититель их молочных бутылок Разбиватель их окон. Подглядыватель за ними в бинокль с дерева. Ужас их домашних питомцев.
Меня погрузили в «скорую». Руки женщин метнулись к губам. Головы мужчин медленно качнулись.
Доктор настоял, чтобы бабушка с дедушкой ехали в отдельной машине. Он сказал, что есть небольшой риск заразиться.
Он хотел знать, есть ли у меня друзья, с которыми я контактировал последние несколько недель.
У бабушки с дедушкой были телефоны Эндрю, Питера и Пола, записанные все в одном месте.
— А еще его сестра, — сообщил дедушка. — Но она уже шесть недель в Баден-Бадене.
— Тогда с ней все будет в порядке, — сказал доктор.
Санитар «скорой» воткнул мне в руку иголку, от которой тянулась трубочка к прозрачной бутылочке.
Я был вылитый мертвец: такой же серый, как и одеяла, в которые меня плотно закутали.
«Скорая» тронулась в путь, а дедушка с бабушкой смотрели ей вслед, пока она ехала по Коровьему проулку.
Доктор от нас позвонил остальным. Эндрю с Полом были в Стриженцах. Питер ушел к себе.
Думаю, водитель «скорой» знал, что я умираю. Он включил сирену, но, поскольку дороги были пусты, выключил, и большую часть пути мы ехали в тишине.
Мы приехали в мидфордскую больницу. Меня прямиком отвезли в отделение неотложной помощи, в инфекционную палату.
Сотрудники «скорой» пошли делать себе прививки.
Другие врачи измерили мне температуру, прослушали грудь, потрогали виски, покачали головой.
В ситуации вроде моей они мало что могли сделать. Слишком поздно.
Где-то через час, около девяти, приехали бабушка с дедушкой. Загоняя машину на стоянку, они поцарапали чей-то автомобиль, и им пришлось сходить за ручкой и бумагой, чтобы оставить пострадавшим записку.
Они стояли в коридоре и смотрели на меня через большое окно. Бабушка плакала, а у дедушки глаза влажно блестели. И в них мокрилось что-то навроде чувства вины.
— Что же мы наделали? — спросила бабушка у дедушки.
— С ним все будет в порядке, — соврал дедушка.
Когда кто-то выходил из палаты, они накидывались на него с вопросами. Наконец главный врач отвел их в маленький кабинет и попытался подготовить к худшему (то есть обрисовать весь ужас ситуации, чтобы они перестали досаждать всем вокруг). Он позволил им немного поплакать у себя в кабинете. На стене висел плакат беременной женщины с сигаретой в зубах. У бабушки с дедушкой слов не было, они просто плакали и плакали. Через два дня должна была вернуться Миранда из своего Баден-Бадена. Они думали, как же им сообщить ей ужасную новость.
Я умер в тот же вечер, в 21.27. Оставшееся время, по крайней мере внешне, прошло без особых событий.
Однако в мозгу, под стенками черепной коробки, продолжало происходить много чего.
Во многих смыслах я чувствовал себя лучше.
Я оглядываюсь на те минуты почти с ностальгией. Там, в больнице, царил полный покой. Я лежал тихий, таким тихим я никогда в жизни и не был.
В каком-то смысле я готовился, как делают многие умирающие, к тому, что мне предстоит после смерти.
Единственный критический момент наступил в самом конце, когда сердце перестало дергаться. В течение совсем недолгого времени врачи и медсестры пытались оживить меня с помощью электрошока. Но я уже плыл над головами.
Я умер.
Я летел.
Впрочем, полет — это из области мелодрамы.
В это мгновение я был в своем теле, а в следующее — уже нет.
Бабушка с дедушкой сидели рядом. Я не слышал, как они говорили мне «мы тебя любим», и «прости нас», и «жаль, что так получилось», и «Мэтью, прости нас». Я не чувствовал, как они сжимают мне руки (бабушка правую, дедушка левую), и целуют меня в лоб, и гладят по щеке. Покидая тело, я не прошел через их печальные сердца. Я ничего не чувствовал. Я уже находился вне. Я превратился в собственный прах И о том, где мой прах найдет пристанище, я думал не больше, чем о том, откуда он вообще взялся. Единственное, что я чувствовал, — нежелание прощать их, а еще желание, чтобы их не простили другие. Я отшвырнул их так же легко, как отшвыривают серый камешек на пляже, где нет ничего, кроме серых камешков.
Последний образ, который запечатлелся во мне, последняя картинка — это кровать, вид сверху, я сам, посмертные заботы обо мне, мое лицо, дряблое, серое.
Затем серый цвет превратился в белый, а белый во что-то совсем иное.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |