"Перегруженный человек" - читать интересную книгу автора (Боллард Джеймс Грэм)
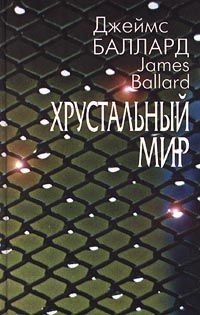 |
Джеймс Боллард Перегруженный человек
***
Фолкнер потихоньку заводился.
Он позавтракал и теперь с нетерпением ждал, когда же Джулия кончит суетиться на кухне. Через две-три минуты она уйдет, однако по какой-то причине это короткое ежеутреннее ожидание неизменно представлялось ему почти невыносимым. Поднимая жалюзи, выходя на веранду, устанавливая поудобнее шезлонг, он помимо собственной воли непрерывно прислушивался к расторопным, предельно экономным движениям жены. В раз и навсегда установленной последовательности она сложила тарелки и чашки в моечную машину, засунула в духовку мясо для ужина и пощелкала таймером, поменяла температурные установки кондиционера и отопительного радиатора, открыла горловину мазутного бака (после обеда приедет цистерна) и подняла свою половинку гаражной двери.
Фолкнер как завороженный отслеживал каждый этап этой последовательности по резкому щелканью тумблеров и пулеметному треску установочных ручек.
Тебя бы на Б-52, – думал он, – за пульт. На самом деле Джулия работала в больничной регистратуре, с утра до вечера крутилась, уж в этом можно не сомневаться, в том же самом вихре заученных, предельно экономичных движений, тыча в кнопки с надписями «Смит», «Джонс» или там «Браун», направляя паралитиков налево, параноиков направо.
Джулия вошла в комнату и приблизилась к нему, стандартная деловая особа в строгом черном костюме и белой блузке.
– Разве ты не идешь в Школу? – спросила она.
Фолкнер покачал головой, бесцельно переложил бумаги на письменном столе.
– Нет, у меня еще творческий отпуск. До конца недели. Профессор Харман решил, что я взял слишком много часов, пора бы и мозги проветрить.
Джулия кивнула, но в ее глазах стояло сомнение. Три недели кряду муж торчал дома, дремал на веранде, как тут не появиться подозрениям. Фолкнер понимал, что рано или поздно она все узнает, однако надеялся оказаться к тому времени вне досягаемости. Его подмывало сказать правду, что два месяца назад он оставил место преподавателя в Школе бизнеса, оставил навсегда, без намерения вернуться. Вот уж будет для нее сюрпризик, когда выяснится, что они почти истратили его последнюю зарплату и даже, возможно, будут вынуждены обходиться одной машиной. Ничего, думал он, пусть поработает, да и вообще ей платят больше, чем мне.
Сделав титаническое усилие, Фолкнер улыбнулся. Выметайся! – вопило у него в мозгу, но жена все еще парила над ним в нерешительности.
– А чем же тебе обедать? У нас ни крошки…
– Обо мне не беспокойся, – нетерпеливо перебил Фолкнер, с тоской глядя на стрелки часов.– Я уже шесть месяцев как бросил есть. А ты пообедаешь в Клинике.
Даже разговор с ней превратился в непомерный труд. Он хотел бы перейти на общение записками, даже купил для этой цели два отрывных блокнота, но так и не набрался духа предложить один из них Джулии, хотя сам постоянно писал ей записки – под тем предлогом, что его мозг занят настолько напряженной работой, что разговор может прервать ход мыслей.
Как ни странно, он никогда не думал всерьез о разводе. Такой побег не докажет ровно ничего. К тому же у него имелся другой план.
– Так тебе ничего не надо? – спросила Джулия, не спуская с мужа настороженных глаз.
– Абсолютно, – заверил ее Фолкнер, удерживая на лице все ту же улыбку. Усилие выматывало, как полный рабочий день на службе.
Быстрый, безразличный поцелуй Джулии поразительно напоминал клюющее движение, каким хитроумная машина надевает крышечки на бутылки с пивом. Все так же улыбаясь, Фолкнер дождался хлопка входной двери, затем медленно стер улыбку с лица, осторожно вздохнул и позволил себе расслабиться, ощущая, как напряжение вытекает через пальцы рук и ног. Несколько минут он бесцельно бродил по пустому дому, а затем вернулся в гостиную, чтобы приступить к серьезной работе.
Программа практически никогда не менялась. Сперва Фолкнер достал из среднего ящика письменного стола устройство, состоявшее из миниатюрного будильника, батарейки и ремешка с электродами. Выйдя на веранду, он затянул ремешок на запястье, завел и установил будильник, пристроил его на столе рядом с собой, а затем привязал свою руку к подлокотнику – чтобы не стряхнуть ненароком будильник на пол.
Когда все было готово, он откинулся на спинку шезлонга и начал изучать открывавшийся с веранды вид.
Поселок Меннингера (или «Бедлам» («Дурдом»), если следовать терминологии местных жителей) был построен десять лет тому назад как самодостаточный жилой микрорайон для дипломированных сотрудников Клиники и членов их семей. Всего в Бедламе было шестьдесят с чем-то домов, спроектированных так, что каждый из них заполнял определенную структурную нишу, с одной стороны – сохраняя свою, отличную от прочих, индивидуальность, а с другой – сливаясь с ними в органическое единство. Втискивая уйму маленьких домиков на участок площадью в четыре акра, архитекторы руководствовались двумя главными установками: не превращать будущий поселок в унылое скопление совершенно одинаковых курятников (что характерно для большинства подобных микрорайонов) и создать для одной из крупнейших психиатрических ассоциаций демонстрационный экспонат, способный послужить моделью корпоративных поселков будущего.
К сожалению, вскоре выяснилось, что Бедлам, задуманный как нечто вроде рая земного для своих обитателей, превращает их жизнь в сущий ад. Архитекторы использовали так называемую психомодулярную систему, основанную на L-образных базовых элементах, то есть все в их творении пересекалось и стыковалось со всем, что привело к легко предсказуемому результату: поселок являл собой нечто аморфное и несуразное. На первый взгляд это хитросплетение матового стекла, белых изгибов и плоскостей могло показаться изысканным и абстрактным («новые тенденции в организации жизни», предлагаемые поселком, были подробно и с множеством глянцевых фотографий освещены на страницах журнала «Лайф»), однако изнутри, при долгих контактах оно представлялось бесформенным и изнурительным для глаза. Старшие администраторы и специалисты Клиники быстренько ретировались, так что теперь Бедлам был доступен для любого, кого удавалось сюда заманить.
Фолкнер выделил из хаоса белых геометрических форм восемь строений, на которые он мог смотреть, не поворачивая головы. Слева, совсем впритык, жили Пензилы, справа – Макферсоны, остальные шесть домиков располагались прямо впереди, на дальней стороне бестолковой мешанины налезающих друг на друга «садовых участков» – абстрактных лабиринтов наподобие тех, по которым бегают лабораторные крысы, с невысокими перегородками, по пояс из белых панелей, стеклянных уголков и щелястых листов пластика.
В садике Пензилов имелся набор огромных, трехфутовых кубиков с буквами. Двое Пензилят регулярно составляли из них послания окружающему миру, иногда – непристойные, иногда – всего лишь загадочные и афористические. Сегодняшняя фраза относилась ко второй разновидности. На зеленой траве ярко выделялись квадраты с буквами:
ЗАМРИ И ПОМРИ
Задумавшись на секунду над глубинным смыслом странного предложения, Фолкнер расслабил сознание, устремленные вдаль глаза остекленели, мало-помалу абрисы строений стали выгорать и сливаться, длинные террасы и пандусы, скрытые частично деревьями и кустами, представлялись чистыми бесплотными формами, исполинскими стереометрическими структурами.
Фолкнер замедлил ритм дыхания, уверенно замкнул свой мозг, а затем без малейших усилий стер всякое осознание смысла попадавших в поле его зрения строений.
Теперь он смотрел на кубистический пейзаж, беспорядочное скопление белых форм на фоне синего задника, разбавленное кое-где зелеными рассыпчатыми фестонами, медленно колеблющимися из стороны в сторону. В голову заползла ленивая мысль, а что же они такое в действительности, эти формы, – Фолкнер знал, что считанные секунды назад они были близко ему знакомы как часть повседневности, однако сколько он ни менял их пространственное расположение, сколько ни искал возможные ассоциации, случайное скопление геометрических фигур так и оставалось случайным.
Он обнаружил за собой эту способность совсем недавно, недели три назад, воскресным утром. Уныло разглядывая выключенный телевизор, он неожиданно осознал, что настолько свыкся, сросся с физической формой этого пластмассового ящика, что не может вспомнить его назначения. Фолкнеру потребовалось значительное умственное усилие, чтобы стряхнуть прострацию и опознать телевизор. Движимый любопытством, он опробовал новообретенную способность на других объектах и быстро выяснил, что наибольший успех достигается при работе с такими плотными клубками ассоциаций, как стиральные машины, автомобили и прочие потребительские товары. После удаления коросты рекламных слоганов и статусной ценности их внутренние претензии на реальность оказывались настолько шаткими, что полностью испарялись при минимальном умственном усилии.
Нечто сходное происходит при употреблении мескалина и прочих галлюциногенов, под чьим воздействием вмятины на подушке становятся резкими и грандиозными, как лунные кратеры, а портьерные складки колышутся подобно волнам вечности.
Далее Фолкнер приступил к осторожным экспериментам, тренируя свою способность оперировать внутренними выключателями. Процесс оказался нескорым, однако постепенно пришло умение устранять все большие и большие совокупности предметов – стандартную мебель в гостиной, хитроумные, сплошь в эмали и никеле, кухонные приспособления, свой собственный автомобиль – лишенный смысла, он лежал в полумраке гаража, как исполинский баклажан, вялый и тускло поблескивающий; попытка опознать этот загадочный объект чуть не свела Фолкнера с ума. «Господи, да что же это такое может быть?» – беспомощно вопрошал он, чуть не лопаясь от хохота.
По мере развития способности он начал смутно подозревать в ней возможный путь побега из невыносимой обстановки поселка – из невыносимого мира.
Фолкнер поделился этими наблюдениями с Россом Хендриксом, своим коллегой по преподаванию в Школе бизнеса и единственным близким другом, который жил здесь же, в Бедламе, через два дома в третьем.
– Может быть, я научился выходить из потока времени, – заключил свой рассказ Фолкнер.– Отсутствие ощущения времени затрудняет процесс визуализации. Иными словами, удаление вектора времени освобождает деидентифицированный объект ото всех его повседневных когнитивных ассоциаций. А может быть, я случайно наткнулся на способ подавлять фотоассоциативные центры мозга, ответственные за идентификацию визуальных представлений. Ведь можно сделать так, что слушаешь разговор на своем родном языке и ничего не понимаешь, ни один звук не имеет смысла, такое чуть не каждый пробовал, – ну и здесь примерно то же самое.
– Да, – осторожно согласился Хендрикс, – только ты не слишком увлекайся. Ведь нельзя же просто вот так взять и закрыть глаза на мир. Отношения субъекта с объектом не настолько полярны, как можно бы заключить из Декартова «Cogito ergo sum». Обесценивая внешний мир, ты ровно в той же пропорции обесцениваешь себя. Мне что-то кажется, что для разрешения твоих проблем больше подошел бы обратный процесс.
Нет, от Хендрикса со всем его сочувственным пониманием не приходилось ждать никакой помощи. К тому же как упоительно увидеть мир наново, купаться в безбрежной панораме сверкающих разноцветных образов. И что за печаль, если эти формы лишены содержания?..
Сухой щелчок вывел Фолкнера из забытья. Он резко сел и схватился за будильник, установленный на одиннадцать часов. Стрелки показывали 10.55. Звонок еще не звенел, электрошок тоже не сработал. Так что же там щелкнуло, ведь не приснилось же, отчетливо было слышно. А с другой стороны, когда в доме такое изобилие всяких механических штуковин, щелкнуть может все что угодно.
По рифленому стеклу, образовывавшему боковую стену гостиной, проползла темная тень; секундой позже Фолкнер увидел, как в узком проезде, отделявшем его участок от Пензилов, остановилась машина. Из машины вышла девушка в синем лабораторном халате; хлопнув дверцей, она направилась по щебеночной дорожке в соседний дом. Двадцатилетняя свояченица Пензила гостила в Бедламе уже второй месяц. Когда она исчезла из вида, Фолкнер торопливо расстегнул ремешок с электродами и встал; открыв дверь веранды, он пулей выскочил в свой садик. Луиза (он знал, как зовут эту девушку, хотя и не был с ней прямо знаком) ходила по утрам на занятия по скульптуре; вернувшись домой, она неспешно принимала душ и лезла на крышу загорать.
Фолкнер слонялся по садику, воровато постреливая глазами в сторону соседского дома; он швырял камешки в пруд, притворялся, что поправляет стойки беседки, а затем увидел за забором Харви, пятнадцатилетнего сына Макферсонов.
– А что это ты не в школе? – спросил он у Харви, тощего, долговязого юнца с умным остроносым лицом под буйной копной рыжих волос.
– Полагалось бы, – непринужденно признался Харви, – но мама легко поверила в мое сильное переутомление, а Моррисон, – так звали его отца, – только и сказал, что я для всего могу придумать причину. Здешние родители, – он сокрушенно пожал плечами, – слишком уж склонны к вседозволенности.
– Что правда, то правда, – согласился Фолкнер, поглядывая через плечо на душевую кабинку. Розовая фигурка возилась с кранами, слышался плеск воды.
– А вот скажите, мистер Фолкнер, – возбужденно заговорил Харви, – вот вы знаете, что после 1955 года, когда умер Эйнштейн, так и не появилось ни одного гения? Микеланджело, потом Шекспир, Ньютон, Бетховен, Гёте, Дарвин, Фрейд, Эйнштейн – все это время на Земле в каждый конкретный момент обязательно имелся хотя бы один живой гений. А теперь, впервые за пятьсот лет, мы полностью предоставлены своим собственным промыслам.
– Да, – кивнул Фолкнер, не глядя на Харви, его глаза были заняты совсем другим делом, – я знаю. Осиротели мы, несчастные, никто-то нас не любит.
По завершении душа он односложно попрощался с Харви, вернулся на веранду, устроился в шезлонге и снова затянул на запястье ремешок.
Он принялся систематически, объект за объектом, выключать окружающий мир. Первыми исчезли дома напротив, белые скопления крыш и балконов быстро превратились в плоские прямоугольники, строчки окон стали наборами маленьких цветных квадратиков, наподобие решетчатых структур Мондриана. Небо повисло безликим синим массивом. Нет, не совсем безликим – где-то в его глубине полз крошечный самолетик, гудели двигатели. Фолкнер аккуратно устранил смысл этого образа и начал с интересом наблюдать, как изящная серебристая стрелка медленно растворяется в синеве.
Ожидая, когда же стихнет гул, он снова услышал непонятный щелчок, точно такой же, что и раньше. Щелчок прозвучал совсем рядом, слева, со стороны окна, однако Фолкнер слишком глубоко утонул в разворачивающемся калейдоскопе, чтобы подняться на поверхность.
Когда самолет окончательно исчез, он переключил свое внимание на садик, быстро обезличил белую ограду, фальшивую беседку, эллиптический диск декоративного пруда. Пруд окружала тропинка; когда Фолкнер стер все воспоминания о бессчетных по ней прогулках, она взмыла в воздух, как терракотовая рука, держащая огромное серебряное блюдо.
Удовлетворенный уничтожением поселка и сада, Фолкнер принялся за дом. Здесь ему противостояли объекты куда более родные и близкие, переполненные глубоко личных ассоциаций, продолжения его самого. Он начал со стоявшей на веранде мебели, трансформировал трубчатые стулья и стеклянный столик в хитроумно запутанные зеленые мотки, а затем повернул голову направо и занялся телевизором, стоявшим в гостиной совсем рядом с дверью на веранду. Коричневый, раскрашенный под дерево пластиковый ящик почти не сопротивлялся, не настаивал на своем смысле, так что Фолкнер без труда отключил ассоциации и превратил его в аморфную кляксу.
Затем он последовательно очистил от ассоциаций книжный шкаф, письменный стол, стандартные лампы, рамки картин и фотографий. Бессмысленные формы висели в пустоте, как хлам из какого-то психологического пакгауза, белые кресла и кушетки напоминали угловатые облака.
Связанный с реальностью одним лишь ремешком на запястье, Фолкнер поворачивал голову из стороны в сторону, систематически лишая окружающий мир последних проблесков смысла, сводя все объекты к бесплотным визуальным образам.
Мало-помалу формы утративших смысл объектов стали и сами терять смысл, абстрактные структуры из линий и цвета растворялись, затягивали Фолкнера в мир чистых психических ощущений, где массивы представлений висели незримо, подобно магнитным полям в камере Вильсона…
Мир взорвался от грохота будильника, в тот же самый момент батарея пронзила запястье Фолкнера огненными шипами. Чувствуя, как шевелятся волосы на затылке, он вернулся в реальный мир, расстегнул ремешок, торопливо потер занемевшую руку, а затем прихлопнул будильник.
Тщательно разминая запястье, возвращая объектам их прежний смысл, наново узнавая дома напротив, садики, свой собственный дом, он остро ощущал, что между ними и его психикой возникло нечто вроде стеклянной стены, преграда прозрачная и все же непреодолимая. Как ни старался он сфокусировать мозг на окружающем мире, преграда не только не исчезала, но даже становилась чуть плотнее.
Преграды возникали и на других уровнях.
Джулия вернулась с работы ровно в шесть, буквально валясь с ног от усталости; вид мужа, сонно слоняющегося по уставленной грязными стаканами веранде, мгновенно вывел ее из себя.
– Ты что, прибрать все это не мог? – ядовито поинтересовалась она, когда Фолкнер направился к внутренней лестнице с явным намерением улизнуть в спальню.– Это не дом, а бардак какой-то. Да встряхнись же ты наконец, что ты как муха сонная?
Недовольно бурча себе под нос, Фолкнер собрал стаканы и понес на кухню. Вторая попытка улизнуть тоже оказалась неудачной: Джулия надежно блокировала кухонную дверь. Часто прикладываясь к стакану с мартини, она стала забрасывать мужа вопросами про Школу. Ну вот, с тоской подумал Фолкнер, – учуяла. А потом, небось, позвонила под каким-нибудь предлогом в Школу, упомянула меня и укрепилась в своих подозрениях.
– Никакого внимания к сотрудникам, – горько посетовал он.– Отлучись хоть на пару дней, и сразу никто не помнит, работаешь ты у них или нет.
Неусыпное внимание и предельная концентрация воли помогли Фолкнеру ни разу за все это время не посмотреть жене в глаза. Да что там сегодняшний вечер, они не встречались глазами уже целую неделю, а может, и дольше. Фолкнер тешил надежду, что это действует Джулии на нервы.
Ужин был медленной пыткой. Дом насквозь пропитался запахом жарящегося в автоматической духовке мяса. Еда не лезла Фолкнеру в горло, к тому же ему было не на чем сосредоточить свое внимание. К счастью, Джулия поглощала пищу с большим увлечением, так что можно было смотреть на ее макушку, когда же она поднимала глаза от еды, он, словно ни в чем не бывало, скользил взглядом по комнате.
После ужина пришло долгожданное спасение. Когда соседские дома растаяли в вечерней мгле, Фолкнер потушил свет в гостиной и включил телевизор. Джулия, конечно же, была недовольна – ей, видите ли, не нравилась ни одна программа.
– Ну что мы смотрим эту штуку каждый вечер? – возмущалась она.– Времени жалко.
– Да чего ты кипятишься? – беззаботно возразил Фолкнер.– Воспринимай это как социальный документ.
Обосновавшись в кресле с высокой спинкой, он закинул руки за голову, что позволяло в любой момент незаметно заткнуть уши и превратить происходящее на экране в немой фильм.
– Ты не обращай внимания, что они там говорят, – посоветовал он Джулии.– Так получается интереснее.
Люди перемещались по экрану, беззвучно разевая рты, ни дать ни взять – сбрендившие рыбы. Особенно нелепо смотрелись крупные планы в мелодрамах – чем напряженнее ситуация, тем уморительнее фарс.
Что-то болезненно ударило его по колену. Подняв глаза, Фолкнер увидел над собой лицо с напряженно сдвинутыми к переносице бровями и перекошенным, яростно шевелящимся ртом. Отстраненно глядя на жену, он на мгновение задумался, а не отключить ли и ее тем же самым способом, что и весь остальной мир. Прекрасное завершение процесса, для такого случая и без будильника обойтись можно…
– Гарри!
Когда крик пробился в сознание Фолкнера, он вздрогнул, выпрямился и разжал уши; к голосу жены добавилась телевизионная болтовня.
– В чем дело? Я немного вздремнул.
– Вернее сказать, отключился. Я тут распинаюсь, распинаюсь, а он хоть бы слово. Так вот, я говорю, что встретила сегодня Харриет Тиззард.– Фолкнер страдальчески застонал.– Ну да, я знаю, что ты терпеть не можешь Тиззардов, но все равно думаю, что нам нужно почаще с ними встречаться…
Фолкнер перестал слушать и откинулся на спинку, когда же Джулия вернулась в свое кресло, он снова закинул руки за голову, пару раз неопределенно хмыкнул, изображая участие в разговоре, а затем заткнул уши, начисто заглушив неумолчную трескотню, и погрузился в созерцание немого экрана.
Назавтра в десять утра он снова вышел на веранду с будильником в руках, а затем целый час блаженствовал в окружении бесплотных образов, освободив свое сознание ото всех треволнений. Ровно в одиннадцать будильник вывел его из забытья. Фолкнер чувствовал себя бодрым и отдохнувшим, первые по пробуждению моменты он даже мог рассматривать окружающие дома с той визуальной заинтересованностью, на которую рассчитывали их создатели. Но свежести восприятия хватило совсем ненадолго, мало-помалу все объекты стали источать свой яд, покрываться коростой назойливых ассоциаций; через какие-то десять минут Фолкнер начал беспокойно поглядывать на часы.
Когда в проезде появилась машина Луизы Пензил, он отложил будильник и выскочил в сад, низко пригнув голову, чтобы пореже натыкаться взглядом на дома. Он возился с беседкой, заменяя отвалившиеся планки, пока над забором не возникла физиономия Харви Макферсона.
– Харви, ты-то здесь откуда? Да ты вообще ходишь когда-нибудь в школу?
– Понимаете, – объяснил Харви, – я сейчас вроде как на этих маминых курсах по снятию напряжения. Дело в том, что я воспринимаю соревновательный аспект школьной жизни как…
– Вот я тут тоже пытаюсь снять напряжение, – оборвал его Фолкнер.– На чем и завершим беседу. Почему бы тебе не погулять где-нибудь в другом месте?
Однако Харви ничуть не смутился.
– Мистер Фолкнер, – продолжил он, – меня тут беспокоит одна вроде как философская проблема. Может, вы мне поможете? Единственным абсолютом пространственно-временного континуума считается скорость света. Но ведь если разобраться, любой способ измерения скорости света неизбежно связан со временем, каковое является субъективной переменной, – ну и что же тогда остается?
– Девочки, – сказал Фолкнер. Он взглянул через плечо на дом Пензилов, а затем раздраженно уставился на Харви.
Харви сосредоточенно нахмурился и попытался расчесать свою пышную шевелюру пятерней:
– О чем это вы?
– О девочках, – повторил Фолкнер.– Слабый пол. Или прекрасный, это уж как тебе больше нравится.
– Я же с вами серьезно, а вы…
Недовольно бормоча и встряхивая головой, Харви уныло побрел к своему дому.
Ну, теперь-то ты заткнешься, – подумал Фолкнер. Пользуясь беседкой как укрытием, он начал рассматривать сквозь ее щели дом Пензилов и неожиданно встретился взглядом с Гарри Пензилом, мрачно стоявшим у окна веранды.
Он торопливо отвернулся и сделал вид, что подрезает розы. К тому времени, как Фолкнер вернулся домой, его рубашка насквозь промокла от пота. Гарри Пензил был вполне способен перескочить, через забор и шарахнуть с правой.
Он пошел на кухню, смешал себе мартини, вернулся со стаканом на веранду и сел, терпеливо ожидая, когда же утихнет смятение, чтобы можно было снова затянуть на запястье ремешок и включить будильник.
Напряженно ловя каждый звук, долетающий из дома Пензилов, он снова услышал знакомый сухой щелчок. Щелкнуло где-то справа.
Фолкнер подался вперед и внимательно оглядел стену веранды. Массивная пластина молочного стекла служила опорой для белых брусьев кровли, обшитых сверху листами гофрированного полиэтилена. Прямо перед верандой, вдоль границы двух прилежащих садовых участков, растянулась на двадцать футов высокая, десятифутовая металлическая решетка, увитая побегами камелии.
Окинув решетку взглядом, Фолкнер неожиданно заметил черный угловатый предмет, установленный на треноге прямо за крайней вертикальной стойкой, в каких-то трех футах от распахнутого окна веранды; стеклянный, немигающий глаз предмета смотрел прямо ему в лицо.
Ничего себе! Как пружиной подброшенный, Фолкнер вылетел из шезлонга и пораженно уставился на фотоаппарат. Это сколько же времени торчит здесь эта чертова штука, сколько моментов моей жизни отщелкала она этому балбесу Харви на забаву!
Кипя негодованием, Фолкнер бросился к решетке, раздвинул прутья и потащил фотоаппарат на себя. Тренога зацепилась за решетку и со стуком упала, мгновение спустя на веранде Макферсонов кто-то громко уронил стул.
Фолкнер оторвал тросик, присоединенный к спуску камеры, и кое-как протащил ее через узкую щель. Откинув заднюю крышку, он вырвал из камеры пленку, затем швырнул ее на пол и несколько раз припечатал каблуком. Собрав обломки, он подошел к забору и зашвырнул их в соседский сад.
Не успел Фолкнер успокоиться и допить мартини, как в холле зазвонил телефон.
– Да, в чем дело? – рявкнул он в трубку.
– Гарри? Это я, Джулия.
– Кто? – переспросил Фолкнер и тут же понял глупость своего вопроса.– Да, конечно. Ну и как там дела?
– Да не слишком блестяще.– В голосе Джулии зазвенел металл.– Я только что имела продолжительную беседу с профессором Харманом. Он говорит, что ты уволился из Школы два месяца назад. Гарри, что это ты затеял? Это не доходит до моего сознания.
– До моего тоже, – радостно поддержал ее Фолкнер.– Это лучшая новость за многие годы. Спасибо, что ты ее подтвердила.
– Гарри! – Джулия срывалась на крик.– Встряхнись, возьми себя в руки! И пожалуйста, не рассчитывай, что я буду тебя содержать. Профессор Харман говорит, что…
– Этот придурок Харман! – взорвался Фолкнер.– Ты что, не понимаешь, что он пытался свести меня с ума?
Когда голос жены взмыл до пронзительного визга, он отодвинул трубку от уха, а затем опустил ее на рычаг аппарата. Немного подумав, он снял ее и положил на стопку телефонных справочников.
На поселок навалилась плотная, почти осязаемая тишина. Ничто не шевелилось, разве что иногда теплый весенний воздух качнет молодое деревце или блеснет отраженным солнцем открывшееся окно.
Будильник валялся в углу, на этот раз его помощь не требовалась. Лежа в шезлонге, Фолкнер все глубже уходил в свой личный мир, в сокрушенный мир недвижных форм и оттенков, обступивших его со всех сторон. Здания напротив исчезли, на их месте повисли длинные белые прямоугольники, сад превратился в зеленую трапецию с серебряным эллипсом у дальнего ее основания. Веранда стала прозрачным кубом, в центре которого и находился сам Фолкнер, вернее – не он, а его образ, плававший в океане фантазий. На этот раз он уничтожил не только окружающий мир, но и свое тело; собственные руки, ноги и туловище казались ему прямыми продолжениями мозга, бесплотными формами, чье физическое существование постоянно тревожило Фолкнера – примерно так же, как во сне человека тревожит осознание собственной личности.
Несколько часов спустя в мир порожденных его фантазией образов вторглось нечто постороннее. Сфокусировав глаза, Фолкнер с удивлением увидел затянутую в черное женскую фигуру. Джулия стояла прямо перед ним, она яростно кричала и размахивала сумочкой.
Фолкнер несколько минут внимательно изучал знакомый, перегруженный ассоциациями образ своей жены, пропорции ее конечностей, плоскости лица. Затем, ни разу не пошевелившись, он начал ее уничтожать. Сперва он забыл кисти ее рук, все так же метавшиеся, подобно ошалевшим от страха птицам, затем руки и плечи, стерев из своего мозга все воспоминания об их смысле и значении. Напоследок он забыл близко нависшее над ним лицо, превратив его в треугольный кусок розоватого теста, деформированный разнообразными выступами и впадинами, вспоротый отверстиями, которые то открывались, то закрывались, подобно клапанам каких-то странных мехов.
Вернувшись в свой мир неподвижных, беззвучных образов, он продолжал сознавать, что жена находится рядом и все так же надоедливо суетится. Ее присутствие представлялось уродливым и бесформенным, какой-то пучок острых, неприятных углов.
Затем они вступили в кратковременный физический контакт. Когда Фолкнер жестом попросил ее уйти, она вцепилась в его руку плотной собачьей хваткой. Он попытался ее стряхнуть, однако она не только не отпускала его руку, но и яростно дергала ее из стороны в сторону.
Ритм движений был резким и неприятным. Первое время Фолкнер пытался ее игнорировать, когда же это не удалось, начал сдерживать и сглаживать, трансформируя угловатую форму в другую, более мягкую и округлую.
Он разминал ее, как скульптор, формующий глину, – процесс сопровождался целой серией щелкающих звуков, настолько громких, что на их фоне терялся даже непрерывный, раздражающий вопль. Завершив свой труд, он уронил на пол нечто вроде большого, негромко поскрипывающего кома губчатой резины.
Затем Фолкнер вернулся в свой мир, наново влился в ничуть не изменившийся за это время ландшафт. Столкновение с женой еще раз напомнило ему о последней оставшейся помехе – его собственном теле. Он полностью забыл предназначение этого объекта, однако продолжал ощущать его как нечто теплое, тяжелое и несколько неудобное – так страдающего бессонницей человека мучает небрежно застеленная кровать. Он стремился к чистой духовности, к ощущению психического бытия, не замутненному никаким физическим посредством. Только так можно бежать тошнотворного внешнего мира.
Где-то на краю его сознания сформировалась идея. Поднявшись на ноги, он пересек веранду, не осознавая связанных с этим физических движений, а просто устремляясь к дальнему концу сада.
Скрытый обвитой розами беседкой, Фолкнер постоял пять минут у кромки пруда, а затем шагнул в воду. Он брел вперед, не обращая внимания на брюки, неудобно вздувшиеся у колен пузырями. Дойдя до середины пруда, он сел в неглубокую воду, аккуратно раздвинул руками водоросли и лег на спину.
Мало-помалу тестообразная масса его тела растворялась, становилась прохладнее и удобнее. Глядя вверх, сквозь шестидюймовый слой воды, накрывавший его лицо, он следил за тем, как синий диск безоблачного, ничем не замутненного неба ширится, стремясь захватить все сознание. Наконец-то ему удалось найти идеальную обстановку, единственно возможное поле чистых представлений, абсолютный континуум бытия, не загрязненного материальными наслоениями. Безотрывно наблюдая за небом, он лежал в спокойном ожидании полного растворения мира, вслед за которым придет свобода.
(support [a t] reallib.org)