"Сан-Феличе. Книга первая" - читать интересную книгу автора (Дюма Александр)
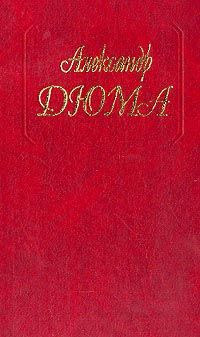 |
Александр Дюма Сан-Феличе Книга первая
Предисловие
События, о которых я собираюсь рассказать, так удивительны, люди, которых я выведу на сцену, так необыкновенны, что я считаю себя обязанным, прежде чем предоставить им первую главу моей книги, поговорить несколько минут об этих событиях и этих людях с моими будущими читателями.
События относятся к тому периоду Директории, который охватывают годы с 1798-го по 1800-й. Два важнейших события той поры — завоевание Неаполитанского королевства генералом Шампионне и восстановление на троне короля Фердинанда кардиналом Руффо; оба эти факта кажутся в равной степени невероятными, поскольку Шампионне во главе десяти тысяч республиканцев громит шестидесяти пятитысячную армию и после трехдневной осады овладевает столицей, насчитывающей полмиллиона жителей, а Руффо, отправившись из Мессины с пятью сторонниками, приумножает этот отряд, который растет как снежный ком, и, пройдя весь полуостров от Реджо до моста Магдалины, появляется в Неаполе во главе сорока тысяч санфедистов и восстанавливает на престоле свергнутого короля.
Только в Неаполе с его невежественным, изменчивым и суеверным населением могут совершаться дела столь немыслимые, становясь достоянием истории.
Итак, вот общая картина: вторжение французов, провозглашение Партенопейской республики, деятельность выдающихся личностей, прославивших Неаполь в течение четырех месяцев, пока существовала республика, санфедистская реакция Руффо, восстановление Фердинанда на троне и последовавшие за этим убийства.
Что же касается действующих лиц, то, как и в других наших сочинениях такого рода, среди них есть и исторические и вымышленные.
Нашим читателям может показаться странным, что мы без каких бы то ни было оправданий предлагаем их вниманию персонажей, являющихся плодом нашей фантазии и относящихся к романтической части книги; но в продолжение более четверти века эти читатели были к нам столь снисходительны, что, вновь выступая после семи— или восьмилетнего молчания, мы считаем излишним взывать к их прежней благосклонности. Пусть отнесутся они к нам так же, как раньше, и мы будем вполне удовлетворены.
Зато о некоторых исторических персонажах нам представляется необходимым поговорить особо, иначе мы рискуем, что их примут если не за плоды вымысла, то, по меньшей мере, за маски, наряженные по нашей прихоти: до такой степени эти личности своими забавными причудами или звериной жестокостью превосходят не только все, что мы видим своими глазами, но и все, что можно себе представить.
Так, мы нигде не найдем королевства, подобного тому, какое создал Фердинанд, и народа, характерным представителем которого мог бы служить Маммоне. Как видите, я беру крайние точки социальной лестницы: короля — главу государства, крестьянина — главаря шайки.
Начнем с короля и, чтобы убежденные роялисты не обвинили нас в неуважении к монархии, обратимся к человеку, дважды посетившему Неаполь, видевшему и изучавшему короля Фердинанда в то самое время, в какое потребности нашего сюжета вынуждают нас теперь вывести его на сцену. Человек этот — Жозеф Гориани, французский гражданин, как он сам себя именует, автор книги «Тайные критические заметки о дворах, правительствах и нравах крупнейших итальянских государств».
Приведем три отрывка из этой книги и покажем неаполитанского короля учеником, охотником, рыболовом.
Теперь уже говорю не я, а Гориани.
ВОСПИТАНИЕ НЕАПОЛИТАНСКОГО КОРОЛЯ
«Когда скончался Фердинанд VI, король Испании, Карл III покинул неаполитанский престол, с тем чтобы занять престол испанский; при этом он объявил, что старший его сын неспособен править государством, второго сына провозгласил принцем Астурийским, третьего оставил в Неаполе, где тот был, несмотря на малолетство, провозглашен королем. Старший впал в слабоумие из-за дурного обращения с ним королевы, постоянно бившей его, как это делают с детьми дурные матери из простонародья (то была саксонская принцесса, черствая, скупая, властная и злобная). Уезжая в Испанию, Карл счел необходимым приставить к неаполитанскому королю, еще ребенку, почтенного воспитателя. Королева, обладавшая наибольшим влиянием в правительстве, поставила эту должность, одну из важнейших, на торги, и князь Сан Никандро, предложивший наиболее крупную сумму, оказался победителем.
Человек с самой подлой душой, когда-либо прозябавшей в неаполитанской грязи, невежественный, подверженный постыднейшим порокам, никогда ничего не читавший, кроме акафистов Богоматери (ее он особенно чтил, что не мешало ему предаваться самому отвратительному разврату), — вот каков был человек, которому поручили ответственное дело воспитания монарха. Легко представить себе, каковы были последствия такого выбора; сам ничего не зная, он не в состоянии был чему-либо научить своего питомца; но этого было недостаточно: чтобы монарх оставался вечным ребенком, он окружил его подобными себе людьми, удалив всех, кто был достоин уважения и способен внушить мальчику желание учиться. Пользуясь безграничной властью, Сан Никандро торговал своим благоволением, должностями, титулами. Желая сделать короля неспособным наблюдать даже за малейшими деталями управления государством, он рано привил ему вкус к охоте под предлогом, что это будет приятно его отцу, всегда увлекавшемуся этой забавой. Мало того что страсть к охоте отвлекала юного короля от дел, воспитатель внушил ему еще и страсть к рыбной ловле, и с тех пор эти развлечения стали для Фердинанда излюбленными.
Неаполитанский король — натура в высшей степени непоседливая; в детстве эта черта проявлялась в нем особенно сильно: ему нужны были непрерывные развлечения, и воспитатель придумывал для него все новые удовольствия и в то же время старался избавить ребенка от присущей его характеру излишней ласковости и доброты. Сан Никандро знал, что самой любимой забавой принца Астурийского, ныне короля Испании, было сдирать кожу с живых кроликов; он и своего воспитанника приучил к этому; иногда мальчик подстерегал несчастных животных в конце узкого прохода, куда их загоняли, и, вооружившись палкой, которая была ему по силам, убивал их, заливаясь беззаботным детским смехом. Для разнообразия он также ловил кроликов, собак или кошек и развлекался тем, что приказывал подбрасывать их до тех пор, пока они не подыхали; наконец, ради большего удовольствия, он пожелал видеть, как подбрасывают людей, и воспитатель счел это вполне разумным: тут игрушкой для коронованного дитяти стали служить крестьяне, солдаты, мастеровые и даже придворные. Однако по распоряжению Карла III этой благородной забаве был положен конец: малолетнему королю было позволено подбрасывать только животных, притом исключая собак (их король Испании взял под свое католическое и монаршее покровительство).
Вот как воспитывался Фердинанд IV, кого даже не научили читать и писать и для кого первой наставницей стала его молодая жена».
НЕАПОЛИТАНСКИЙ КОРОЛЬ — ОХОТНИК
«Плодом подобного воспитания должно было явиться чудовище, нечто вроде Калигулы. Неаполитанцы этого и ждали, но природная доброта юного монарха взяла верх над столь порочным воспитанием: из него получился бы превосходный правитель, если бы ему удалось преодолеть увлечение охотой и рыбной ловлей, отнимавшими у него много времени, которое он мог бы с пользой посвятить государственным делам. Но, боясь потерять утро, благоприятное для его любимых удовольствий, он стал пренебрегать даже самыми важными обязанностями, а королева и министры ловко пользовались его слабостью.
В январе 1788 года Фердинанд созвал во дворце Казерта Государственный совет; на нем присутствовали королева, министр Актон, Караччоло и еще несколько человек. Разбирался весьма важный вопрос. Во время обсуждения кто-то постучался в дверь; все были удивлены и не могли себе представить, кто же осмелился нарушить ход заседания. Но король бросился к двери, отворил ее и вышел; вскоре он возвратился, весь сияя от радости, и попросил поскорее закончить заседание, потому что его ждет другое, более важное дело. Заседание прервали, и Фердинанд удалился к себе: он хотел лечь спать пораньше, чтобы на следующий день встать до зари.
Охота и была для него тем делом, с которым ничто не могло сравниться по важности; стук в дверь во время заседания Государственного совета был не что иное, как условный сигнал, о каком сговорились король и его доезжачий: выполняя приказ государя, тот явился доложить, что на рассвете в лесу была замечена стая кабанов, собиравшихся в этом месте каждое утро. Ясно, что надо было прервать заседание Совета, чтобы пораньше лечь спать и быть в состоянии застать кабанов врасплох. Если б они скрылись — что сталось бы со славою Фердинанда?
В другой раз в том же зале и при тех же обстоятельствах послышался троекратный свист: это опять-таки был условленный между Фердинандом и его доезжачим сигнал; но шутка эта не пришлась по вкусу королеве и другим участникам совещания, она позабавила одного лишь короля: он быстро отворил окно и выслушал доезжачего, который доложил ему о появлении дичи и добавил при этом, что если его величеству угодно хорошо пострелять, то нельзя терять ни минуты.
Переговорив с доезжачим, король поспешно вернулся к столу и сказал королеве:
— Моя милая наставница, председательствуй вместо меня и реши по своему усмотрению вопрос, которым мы занимаемся».
КОРОЛЕВСКАЯ РЫБНАЯ ЛОВЛЯ
«Кажется забавной сказкой, когда слышишь, что неаполитанский король не только ловит рыбу, но и сам ею торгует. Однако это правда; мне лично довелось присутствовать при этом комичном и единственном в своем роде зрелище, и сейчас я его опишу.
Обычно король рыбачит в той части моря, что прилегает к горе Позиллипо, в трех-четырех милях от Неаполя. После обильного улова он возвращается на берег и, сойдя с лодки, целиком отдается самому любимому своему развлечению: на берегу раскладывается весь улов, подходят покупатели и начинают торговаться с самим монархом. Фердинанд ни в коем случае не отпускает товар в кредит; наоборот, он стремится получить деньги вперед и проявляет весьма подозрительную недоверчивость. Тут всякий может подойти к нему, особенно же пользуются этой привилегией лаццарони, ибо король относится к ним более дружественно, чем к прочим зрителям. Лаццарони, однако, всегда внимательны к иностранцам, желающим увидеть короля поближе. С началом торга картина становится крайне забавной: король старается продать товар как можно дороже, берет рыбу в свои королевские руки, расхваливает ее, приговаривая все, что, по его мнению, может соблазнить покупателя. Неаполитанцы, вообще крайне непосредственные, обращаются с королем в данных обстоятельствах совершенно запросто и осыпают его бранью, словно это простой торговец свежей рыбой, пытающийся их обмануть; короля весьма развлекают их нападки, и он хохочет от души; затем он отправляется к королеве и рассказывает ей обо всем, что произошло во время ловли рыбы и при ее продаже, — тут множество поводов для всяческих шуток. А пока король занят охотой и рыбной ловлей, королева и министры, как уже было сказано, управляют государством по своей прихоти, и дела от этого идут не лучшим образом».
Обождите, и король Фердинанд предстанет перед нами с новой стороны.
На этот раз мы обратимся не к Гориани, путешественнику, который несколько минут наблюдал, как король торгует рыбой или видел его скачущим на охоту; мы расспросим друга дома, Пальмиери де Миччике, маркиза де Бильальба, любовника любовницы короля, и он покажет нам монарха во всей его неприкрытой низости.
Послушайте же, что говорит маркиз де Вильальба, причем на нашем языке:
«Вам известны, не правда ли, подробности отступления Фердинанда, точнее говоря, его бегства во время событий в Южной Италии в конце 1798 года? Напомню их вам вкратце.
Шестьдесят тысяч неаполитанцев под командованием австрийского генерала Макка, подбадриваемых присутствием короля, победоносно продвигались к Риму, когда Шампионне и Макдональд, соединив свои слабые войска, напали на эту армию и обратили ее в бегство.
Фердинанд узнал об этом сокрушительном поражении, когда находился в Альбано.
— Fuimmo! Fuimmo! 1 — закричал король. И он действительно бежал.
Но, прежде чем сесть в коляску, он сказал своему спутнику:
— Дорогой мой Асколи, сам знаешь, какое множество якобинцев кишит всюду в наши дни! Эти сукины дети о том только и помышляют, как бы убить меня. Примем же меры, переоденемся. В пути ты будешь королем, а я — герцогом д'Асколи. Так для меня будет безопаснее.
Сказано — сделано. Великодушный Асколи с радостью согласился на это невероятное предложение; он спешит облачиться в королевский мундир, свой отдает Фердинанду, садится в экипаже справа и — поехали!
Герцог, этот новый Дандино, мастерски играет свою роль вплоть до самого Неаполя, да и Фердинанд, став от страха изобретательнее, исполняет роль услужливого царедворца так убедительно, словно был им всю жизнь.
Правда, король навсегда остался признателен герцогу д'Асколи за такую из ряда вон выходящую преданность монарху и всю жизнь осыпал его знаками своего благоволения. Вместе с тем по странности, которую можно объяснить лишь своеобразным характером короля, он частенько осмеивал герцога с его достохвальной самоотверженностью и тут же насмехался над собственной трусостью.
Однажды, когда я вместе с этим вельможей находился у герцогини де Флоридиа, к ней приехал Фердинанд. Он предложил ей руку, чтобы вести ее к обеду. Как незаметный, скромный друг хозяйки дома я был польщен тем, что присутствую при появлении короля; пробормотав «Domine, non sum dignus» 2 я даже отступил на несколько шагов, а благородная дама, бросив последний взгляд на свой туалет, стала восхвалять герцога за беззаветную преданность ее царственному любовнику.
— Герцог несомненно ваш истинный друг, — говорила она, — преданнейший ваш слуга и пр. и пр.
— Конечно, конечно, донна Лючия, — отвечал король. — Так спросите же у Асколи, какую шутку я сыграл с ним, когда мы спасались из Альбано.
И король рассказал о переодевании, о том, как они справились со своими ролями, причем добавил со слезами на глазах, но громко хохоча:
— Он был король! Попадись мы якобинцам, его бы повесили, а я бы уцелел!
Все странно в этой истории: странный разгром, странное бегство, наконец, странное разглашение этих фактов в присутствии постороннего, ведь я был посторонним для придворных и особенно для монарха, с которым беседовал всего раз или два.
К чести для человеческого рода, наименее странное в этой истории — самоотверженность благородного вельможи».
Итак, мы обрисовали здесь портрет одного из героев нашей книги, образ, в правдивость которого, как мы опасаемся, трудно поверить, однако он был бы неполным, если бы мы представили этого коронованного пульчинеллу лишь с его стороны лаццароне. В профиль он причудлив, зато в фас — страшен.
Вот дословно переведенное с подлинника письмо, которое он написал Руффо — победителю, готовому войти в Неаполь. Король составляет список тех, кто подлежит преследованиям; он продиктован одновременно ненавистью, мстительностью и страхом.
Теперь, чтобы Неаполь в дни революции предстал перед читателями в своем истинном виде, нам остается ввести в наше повествование еще один персонаж, неправдоподобный и почти немыслимый; это человек, находящийся на другом конце социальной лестницы, своего рода чудовище, полутигр-полугорилла, по имени Гаэтано Маммоне.
Всего только один автор рассказывает о нем как о человеке, с которым он был лично знаком, — это Куоко. Остальные лишь повторяют то, что сказал Куоко:
«Маммоне Гаэтано, сначала мельник, потом главнокомандующий повстанцами Соры, был кровожадное чудовище, чьи зверства ни с чем не сравнимы. За два месяца на небольшой территории по его приказам было расстреляно триста пятьдесят несчастных, не считая почти вдвое большего числа жертв, убитых его подручными.
Я уже не говорю о насилиях, пожарах, резне, не говорю о страшных ямах, куда он бросал несчастных, попавших ему в руки, ни о новых способах убийств, изобретенных его жестокостью: он возродил зверства Прокруста и Мезенция. Ему так нравилась кровь, что он пил ту, которая текла из ран несчастных, убитых им собственноручно или по его приказанию. Пишущий эти строки видел, как он пил собственную кровь после кровопускания, а также ходил к брадобрею за кровью людей, которым отворяли кровь до его прихода. На обеденном столе у него почти всегда высилась отрубленная голова, а пил он из человеческого черепа.
И вот к такому чудовищу Фердинанд Сицилийский обращался со словами «Мой генерал и мой друг»«.
Что же касается остальных персонажей — я опять-таки имею в виду персонажей исторических, — то они более человечны: это королева Мария Каролина, чей образ мы попытались бы дать в общих чертах, если бы он уже не был выразительно нарисован принцем Наполеоном в великолепной речи, произнесенной им в сенате и оставшейся у всех в памяти; это Нельсон, чью биографию написал Ламартин; это Эмма Лайонна, чьи двадцать портретов можно увидеть в Королевской библиотеке; это Шампионне, чье имя прославлено на первых страницах истории нашей Революции и кто, как и Марсо, Гош, Клебер, Дезе, как мой отец, имел счастье не дожить до конца царства свободы; это, наконец, некоторые великие и поэтичные фигуры, что появляются и блистают во время политических катаклизмов: во Франции они именуются Дантоном, Камиллом Демуленом, Бироном, Байи, госпожой Ролан, а в Неаполе — Этторе Карафа, Мантонне, Скипани, Чирилло, Чимароза, Элеонорой Пиментель.
Относительно же героини, именем которой названа эта книга, надо сделать одно замечание.
Во Франции даму благородного происхождения или просто незаурядную женщину называют «мадам», в Англии — «миледи» или «миссис», в Италии, стране непринужденных нравов, ее называют только по фамилии. У нас подобное было бы воспринято как неуважение, в Италии же, а тем более в Неаполе, это чуть ли не дворянский титул.
Говоря об этой несчастной женщине, ставшей историческим персонажем вследствие обрушившихся на нее невзгод, никому в Неаполе не пришло бы в голову сказать «госпожа Сан Феличе» или «супруга кавалера Сан Феличе».
Говорят просто: «Сан Феличе».
Я счел долгом сохранить неприкосновенным это имя в книге, названием своим обязанной ее героине.
А теперь, любезные читатели, после того как я изложил все, что мне хотелось вам сказать, мы можем, если желаете, приступить к повествованию.
Александр Дюма.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |